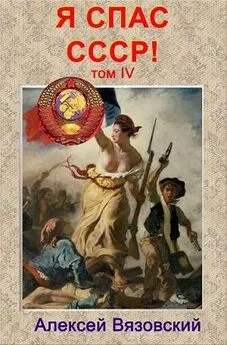Ю Фельштинский - Коммунистическая оппозиция в СССР (1923-1927) (Том 1)
- Название:Коммунистическая оппозиция в СССР (1923-1927) (Том 1)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ю Фельштинский - Коммунистическая оппозиция в СССР (1923-1927) (Том 1) краткое содержание
Коммунистическая оппозиция в СССР (1923-1927) (Том 1) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
ленинизм. Нет, это значит верой и правдой служить ему.
Тов. Зиновьев спрашивает: была ли предоктябрьская и октябрьская оппозиция против захвата власти правой группировкой, или правым течением, или правым крылом? На этот вопрос, который, казалось бы, вовсе и не является вопросом, тов. Зиновьев отвечает отрицательно. Его ответ чисто формалистический: так как большевистская партия монолитна, то у нее не могло быть в октябре правого крыла. Но совершенно очевидно, что большевистская партия не в том смысле монолитна, что в ней никогда не возникало правых тенденций, а в том смысле, что она всегда успешно справлялась с ними: иногда отсекала их, иногда рассасывала. Так было и в октябрьский период. Казалось бы, тут и спорить не о чем: раз в момент, когда переворот назрел, в партии обнаружилась оппозиция против переворота, то это была оппозиция справа, а не слева. Не можем же мы, как марксисты, ограничиваться только психологической характеристикой оппозиции: "колебания", "сомнения", "нерешительность" и прочее. Ведь эти колебания имели политический, а не какой другой характер. Ведь эти колебания противопоставляли себя борьбе пролетариата за власть. Ведь это противопоставление обосновывалось теоретически и велось под политическими лозунгами. Как же можно отказываться от политической характеристики внутрипартийной оппозиции, выступившей в решающий момент против захвата власти пролетариатом? И почему необходимо такое воздержание от политической оценки? Это я совершенно отказываюсь понять. Можно, конечно, поставить вопрос психологически и персонально, например: случайно или неслучайно тот или другой товарищ оказался в составе оппозиции против захвата власти? Я этого вопроса совершенно не касался, ибо он не лежит в плоскости оценки тенденций партийного развития. Тот факт, что у одних товарищей оппозиция измерялась месяцами, у других - неделями, может иметь только личное, биографическое значение, но не влияет на политическую оценку самой позиции. Она отражала давление на партию буржуазного общественного мнения в тот период, когда над головой буржуазного общества сгущалась смертельная опасность. Ленин обвинял представителей оппозиции в том, что они "фатально" проявляют оптимизм насчет буржуазии, и "пессимизм" - по части революционных сил и способностей пролетариата (XIV, ч. II, стр. 276). Надо просто перечитать письма, статьи и речи Ленина, относящиеся к этой эпохе, и всякий убедится без труда, что через них красной нитью проходит характеристика оппозиции, как правого уклона, отражавшего давление буржуазии на партию пролетариата в период, предшествующий завоеванию власти. Причем характеристика эта не ограничивается одним только периодом непосредственной острой борьбы с правой оппозицией, а повторяется у Ленина и значительно позже. Так, в конце февраля 1918 года, то есть четыре месяца спустя после октябрьского переворота, во время "свирепой" борьбы с левыми коммунистами, Ленин называет октябрьскую оппозицию "оппортунистами Октября". Можно, конечно, напасть и на эту оценку: разве в монолитной большевистской оппозиции могут быть оппортунисты? Но такой формалистический довод, конечно, повиснет в воздухе, раз дело идет о полити
ческой оценке. А политическая оценка была дана Лениным, им обоснована, и считалась общепризнанной в партии. Не знаю, зачем ее ныне ставить под знак сомнения?
Почему правильная политическая оценка октябрьской оппозиции важна? Потому что она имеет международное значение; она еще только получит свое полное значение в будущем. Здесь мы подходим вплотную к одному из главных уроков нашего октября, и урок этот получает ныне новые, огромные пропорции после отрицательного опыта немецкого октября. С этим уроком мы будем встречаться в каждой пролетарской революции.
Среди многих трудностей пролетарского переворота есть одна совершенно определенная, конкретная, специфическая: она вытекает из задачи партийно-революционного руководства. При резком повороте событий даже самые революционные партии, как повторял Ленин, рискуют отстать, и противопоставить вчерашние лозунги или приемы борьбы новым задачам, новым потребностям. А более резкого поворота событий, чем тот поворот, который создает необходимость вооруженного восстания пролетариата, вообще не может быть. Здесь и возникает опасность несоответствия между партийным руководством, между политикой партии в целом и между поведением класса. В "нормальных"условиях, то есть при сравнительно медленном движении политической жизни, такие несоответствия, хоть и с ущербом, но без катастрофы. А в периоды острых революционных кризисов не хватает как раз времени для того, чтобы устранить несоответствие и, так сказать, выравнять фронт под огнем. Периоды высшего обострения революционного кризиса бывают, по самой своей природе, быстротечны. Несоответствие между революционным руководством (шатания, колебания, выжидательность...) и объективными задачами революции может иногда в течение нескольких недель и даже дней привести к катастрофе, к утрате того, что было подготовлено годами работы. Разумеется, несоответствие между руководством и партией (классом, всей обстановкой) может иметь и противоположный характер: это когда руководство обгоняет развитие революции, принимая пятый месяц беременности за девятый. Наиболее яркий пример такого несоответствия мы видели в Германии в марте 1921 года. Там мы имели в партии крайнее проявление "детской болезни левизны", и как результат -пучизм (революционный авантюризм). Эта опасность вполне реальна и для будущего. Уроки Третьего Конгресса Коминтерна сохраняют поэтому всю свою силу. Но прошлогодний немецкий опыт показал нам с жестокой наглядностью противоположную опасность: обстановка созрела, а руководство отстает. Пока руководство успеет выровняться по обстановке, меняется обстановка: массы отливают и резко ухудшается соотношение сил. В немецком поражении прошлого года было, конечно, много национального своеобразия, но были и глубоко типические черты, которые знаменуют общую опасность. Ее можно назвать кризисом революционного руководства. Низы пролетарской партии гораздо менее восприимчивы к давлению буржуазно-демократического общественного мнения, но известные элементы партийных верхов и среднего партийного слоя будут неизбежно, в большей или меньшей мере, поддаваться материальному и
идейному террору буржуазии в решающий момент. Отмахиваться от этой опасности нельзя. Конечно, против нее нет какого-либо спасительного средства, пригодного на все случаи. Но первый шаг борьбы с опасностью понять ее источник и природу. Появление (или развитие) правой группировки в каждой коммунистической партии в "октябрьский" период отражает, с одной стороны, величайшие объективные трудности и опасности, а с другой, - бешеный напор буржуазного общественного мнения. В этом суть и смысл правой группировки. Именно поэтому неизбежно возникновение в коммунистических партиях колебаний и шатаний в этот именно момент, когда они более всего опасны. У нас эти колебания и трения имели минимальный характер. Это и дало нам возможность совершить октябрь. На противоположном полюсе стоит германская коммунистическая партия, где революционная ситуация оказалась упущенной, а внутрипартийный кризис был так остер, что привел к полному обновлению всего руководящего аппарата партии. Между этими крайними полюсами будут, по всей вероятности, располагаться все коммунистические партии в свой "октябрьский" период. Свести неизбежные кризисы революционного руководства к минимуму - одна из важнейших задач каждой коммунистической партии и Коминтерна в целом. Достигнуть этого можно, лишь поняв наш октябрьский опыт, поняв политическое содержание октябрьской оппозиции внутри нашей партии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


![СССР 2061 - СССР-2061. Том 3[сборник рассказов ; СИ]](/books/415955/sssr-2061-sssr-2061-tom-3-sbornik-rasskazov-si.webp)
![СССР 2061 - СССР-2061. Том 4[сборник рассказов ; СИ]](/books/422691/sssr-2061-sssr-2061-tom-4-sbornik-rasskazov-si.webp)
![Алексей Вязовский - Я спас СССР! Том V [СИ]](/books/1060529/aleksej-vyazovskij-ya-spas-sssr-tom-v-si.webp)