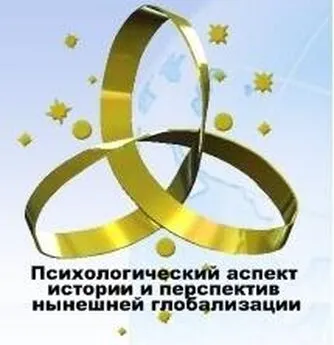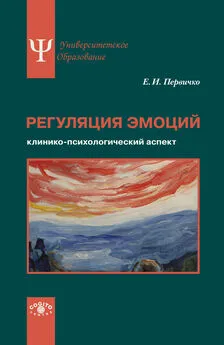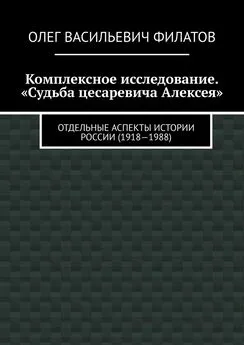КОБ - Психологический аспект истории и перспектив нынешней глобальной цивилизации
- Название:Психологический аспект истории и перспектив нынешней глобальной цивилизации
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
КОБ - Психологический аспект истории и перспектив нынешней глобальной цивилизации краткое содержание
В материалах Концепции общественной безопасности в Достаточно общей теории управления (ДОТУ) есть раздел, который многие читатели пропускают, находя его абстрактным и потому слишком сложным для понимания или никчёмным для практики: это — “Процессы в суперсистемах: возможности течения”. Однако, поскольку человечество и биосфера Земли — взаимное вложение двух суперсистем, то названный раздел очень даже прикладной и его освоение необходимо для понимания истории, перспектив и выработки политики. Но он действительно не осваивается мимоходом: для этого требуется выделить время, чтобы прочитать его от начала до конца за день или за два, не отвлекаясь на другие дела и соотнося разные фрагменты его текста друг с другом, и уже после прочтения переосмыслить, соотнося весь текст с жизнью общества. В настоящей записке речь пойдёт о тех же процессах, что и в названном разделе ДОТУ, но большей частью в конкретно-научной и социолого-политической терминологии, а не в терминологии ДОТУ.
Предлагаемый материал рекомендуется в первый раз прочитать игнорируя сноски, объём которых составляет порядка 40 % от объёма основного текста (без приложений), для того, чтобы сформировать общие целостные образные представления о разсматриваемой проблематике. Отвлекаться при чтении на сноски — значит препятствовать этому процессу, разрывая его на куски. Сноски лучше прочитать потом — отдельно или при вторичном прочтении работы и её отдельных фрагментов.
Психологический аспект истории и перспектив нынешней глобальной цивилизации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
либо к разпаду прежней общины, становлению новой и появлению некоторого количества изгоев из числа лжецов и самодовольных, которым не находится места в новой общине [97];
либо к переходу группы людей, составлявших общину, к управлению, на иных принципах, осуществление которых уничтожает общинный характер их жизни.
Вот в общем-то и всё принципиально значимое, что можно сказать о жизни компактно проживающей на основе своего труда общины, вне зависимости от того, к какой культуре община принадлежит и в каком регионе с какими природно-географическими условиями сложился компактно-общинный уклад жизни. Но всему этому в каждой культуре со сложившимся устойчивым в преемственности поколений компактно-общинным укладом жизни сопутствует и некоторая специфика, отличающая всякую культуру от других. Это касается и культуры компактно-общинного проживания, в которой возник изначальный русский характер.
Но нас будет интересовать не то, что славянские женщины в древности вплетали в причёску специфические украшения (так называемые височные кольца) и каждая племенная группа славян отличалась от других в том числе и стилем височных колец, о чём мало кто ныне знает; а маори в Новой Зеландии делали татуировки, что почти все помнят по роману Жюля Верна “Дети капитана Гранта”; а у кого-то были топоры специфической формы или уникальные узоры на посуде, о чём знают только историки — узкие специалисты по доисторическим культурам.
Нас будет интересовать специфика межобщинных взаимоотношений и цивилизационная специфика культуры, в которой возник и выразился изначальный русский характер.
3.5. Межобщинные отношения и Русский дух
Однако, выявив ту этику, на основе которой община (в том числе и не компактная) может жить в преемственности поколений, идеализировать жизнь людей и общества в целом в ту эпоху тоже не следует.
Такие «молодецкие забавы» как кулачный бой стенка на стенку — улица на улицу, деревня на деревню, а в городе — район на район, возведённые в ранг праздничных ритуалов [98]или способа свободного времяпрепровождения, и дожившие в таковом качестве до середины 1930 х гг. даже в крупных городах [99], тоже из той древней эпохи. Злобу в эти «забавы» не вкладывали, за проявления в них злобы кем-либо сами же могли покалечить или убить, но не сразу в ходе боя стенка на стенку, а потом, объяснив предварительно виновнику — за что ему предстоит принять кару. Кровь в этих «забавах» лилась настоящая, зубы, а иногда глаза вылетали, носы, челюсти и рёбра ломались на самом деле, но потерпевшему поражение бойцу достаточно было сеть на землю или не подняться с земли после того, как его сбили с ног, обозначив тем самым всем свою неспособность участвовать в потешном бою дальше. И если осевшего или упавшего кто-то посмел ударить, то после этого у него надолго пропала бы охота так поступать; а может быть он уже никогда и не смог бы участвовать в такой «забаве»: и свои, и чужие отделали бы так, что мало не показалось [100]. Это учило людей самообладанию, сдержанности и определённой заботе о своих.
Из той же эпохи и другая традиция, тоже дожившая до наших дней (в том числе и во многих городах): в определённую общеизвестную для носителей традиции дату, как правило ночью, ватага молодцов проникает на чужую территорию и «шутит»: разберёт поленицу дров или амбар, подопрёт дверь в избу, что-то сворует или угонит. В наши дни эта традиционная «забава» тоже утратила общественную полезность, выродилась в разрушительный вандализм и хулиганство. И в тех местностях (особенно в городах), где она практикуется доныне, она представляет собой для милиции особую «головную боль» на одну летнюю ночь.
Вот одна из реальных молодецких выходок 1970 х гг. Городская улица, ведущая к реке, имеет общую протяжённость спуска изменяющейся крутизны около 2 км с общим перепадом высот метров в 60. В ночь таких ритуальных игрищ, молодёжь спустила вдоль улицы автомобильный одноосный прицеп — бочку с квасом весом около полутора тонн, которая стояла на своей обычной точке торговли и, как всегда, была оставлена на своём обычном месте на ночь, поскольку квас из неё накануне не был продан. Обошлось без жертв и увечий, кроме бочки-полуприцепа ничего не было разбито — повезло.
Понятно, что от таких традиций, тем более в их извращённо-отмороженных выражениях, сейчас одни проблемы, но встаёт вопрос: откуда они взялись и для чего возникли?
Однако, при всей их кажущейся дикости, некогда в далёком прошлом они были своеобразным выражением заботы о людях и были общественно полезны. И именно в силу этого они сложились, существовали и поддерживались на протяжении многих веков.
Но дело не в том, что многие люди переживают определённый возраст, когда сила уже есть, а ума и ответственности за её применение ещё нет [101], вследствие чего и возникают общественные институты, в которых «удаль молодецкая» могла бы разгуляться «на полную катушку», не досаждая серьёзными неприятностями всем прочим остепенившимся с возрастом обывателям.
Хоть образ жизни в лесах Восточно-Европейской равнины и был таков, что военные захваты добычи на этой территории её жителями как «экономический уклад» были не оправданы, но эпизодические межобщинные конфликты не могли не возникать в силу разных причин и мотиваций. Соответственно была и внутренняя потребность в том, чтобы владеть навыками ведения боя в том числе и для того, чтобы не порождать и не поощрять в соседях безнаказанной вседозволенности.
Кроме того, торговля за пределами своей «этнической территории» велась и тогда, но в те времена её можно было вести только под прикрытием своей военной силы, поскольку в противном случае за пределами территории своей культурной общности купцы вместе со своим товаром гарантированно превратились бы в чью-то военную добычу.
Также не следует забывать, что по соседству жили и носители культур, основанных на иных принципах. Жившим далее к югу кочевникам-скотоводам были нужны не только кони, коровы и бараны, но и рабы: в меньшем количестве — для нужд собственного хозяйства; в большем количестве — на продажу своим соседям (доход от продажи раба, на протяжении всей истории больше, чем доход от продажи барана) [102].
Да и девицы-красавицы и женщины — иноплемённые и из других общин — для некоторой части мужчин — и в степи, и в лесу — всегда были более привлекательны, нежели свои соотечественницы, с которыми они играли в раннем детстве. И эту потребность — генетико-биологически оправданную — не всегда удавалось удовлетворить мирными средствами.
Соответственно этим историко-культурным и природно-географическим обстоятельствам степные скотоводы предпринимали военные набеги с целью захвата рабов, проникая в леса на многие десятки и сотни километров [103] . И хоть лес представлял собой естественно-природную фортификационную систему, но и как всякий «укрепрайон» абсолютной непроходимости для врага лес не гарантировал, тем более в лесостепных районах, где массивы леса и степи сменяют друг друга, вследствие чего ярко выраженной границы «степь — непроходимый лес» не существует; да и в лесных чащобах-массивах — хоть и бездорожье, но звериные тропы есть, поскольку и доныне живут в лесах Восточно-Европейской равнины и кабаны, и лоси, а где пройдёт лось, — там пройдёт и группа конников; а в древности жили в лесах и более крупные копытные — буйволы, зубры и туры. Так, что, умея ориентироваться, группа конников-захватчиков, совершая набег, могла углубиться в лес очень далеко, вследствие чего и в сотнях километрах от начала лесных массивов осёдлое население лесов не было гарантировано от захвата в полон (плен) и от разграбления жилищ в ходе набега степняков.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: