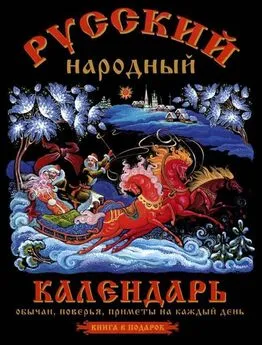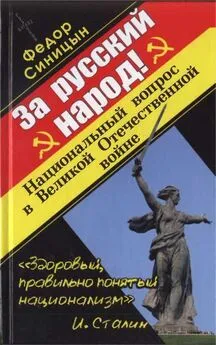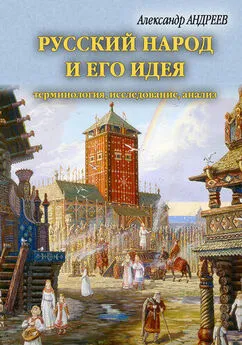Николай Алексеев - Русский народ и государство
- Название:Русский народ и государство
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Алексеев - Русский народ и государство краткое содержание
Сборник работ одного из основоположников евразийства впервые издан в России. Николай Николаевич Алексеев был историком, философом и правоведом. Он единственный разработал законченную теорию будущего евразийского государства. В книгу «Русский народ и государство» вошел и главный труд Алексеева «Современное положение науки о государстве». Ученый исходил из предположения, что Россия — это ни Восток, ни Запад, а находящаяся между ними Евразия. Гарантийное государство, обеспечивающее основные права своих граждан, должно строиться на духовно-нравственном самоограничении верховных органов, «которые никто не может принудить и которые могут принуждать только сами себя». Мысль о построении в России демократического государства, где народ имеет реальный механизм для воздействия на верховную власть и ее смены, Алексеев отвергал. Он полемизировал с западниками, наиболее ранний из которых — русский морской агент в Англии во времена Петра I Федор Салтыков утверждал, что в России «должно быть все, как в Англии сделано». Алексеев же «как в Англии» не хотел, считая Россию «совершенно особым географическим, экономическим и культурным целым». В предлагаемой Алексеевым модели государственного устройства главное заключается в правде взаимного служения народа — государству, а государства — народу. Концепцию «естественного права», «правового государства» и «прав человека» он считал отражающей лишь одну из линий развития, когда права, первоначально присущие лишь верхушке общества, постепенно распространяются на всех его членов. Альтернативный путь Алексеев видел в постановке на первое место не прав, а обязанностей. Такое государство называется «тягловым государством».
Вряд ли теория «тяглового государства» найдет сегодня много сторонников в России, где народу на протяжении нескольких столетий довелось изведать все прелести государственного тягла. Однако работы Алексеева не стоит отвергать как ретроградные и давно потерявшие свою актуальность. Очень многое в них сохраняет свое значение и сегодня. Например, критическое изложение основ западной демократии. Алексеев подчеркивал, что «ясно выраженное меньшинство было представителем культурных тенденций государства в мировой истории, а среди этого меньшинства еще более узкий слой фактически руководил государством (управляющая группа)». Здесь мы имеем дело с одной из наиболее ранних (вторая половина 20-х годов) теорий политической элиты. А вот интересное суждение о том, что «ведущим слоем в демократии сначала была буржуазия, потом с ней стал конкурировать пролетариат. Современная демократия и есть временный компромисс этих борющихся классов. Неофициально управляющей группой в демократии оказались партийные вожаки и партийные комитеты… Официальными выразителями этой олигархии являются государственные органы…» Алексеев признавал классовую теорию государства, но сводил ее не к экономическим, а к психологическим причинам: «Дело здесь не в простом физическом преобладании, а в способности имущих властвовать над душами неимущих… Психическая мощь есть господство над душами людей, и к этой мощи сводится в конце концов властвование правящих классов над большинством». Одним из первых Алексеев указал и на роль пропаганды и манипулирования общественным мнением в функционировании государственного механизма, отметив, что эта роль коренится в человеческой психике: «Властные отношения по природе своей иррациональны, в них присутствует элемент гипнотический, им не чужды состояния магической очарованности, особого поклонения и восторга. История культуры показывает, что властителями первобытных народов являются жрецы, шаманы, колдуны и маги. В современности бывают случаи обращения к приемам, использующим технику массового внушения и пропаганды. Несомненным преимуществом властных отношений является то, что они основаны на очень первичных и элементарных сторонах человеческой психики, потому обладают значительной социально-организационной силой. Недостаток их в опасности чисто личного режима и связанного с ним произвола». Фактически мыслитель предостерегал человечество против подчинения харизматическим вождям. Избавиться от личной диктатуры в будущем гарантийном государстве Алексеев надеялся за счет привлечения к управлению специалистов, обладающих техническими знаниями в административной сфере. Как и все евразийцы, Алексеев ставил явно утопическую цель. Однако в точности анализа политических структур и связанных с этим прогнозов ему не откажешь. И его книга вполне может служить дополнительным пособием для учителей при преподавании основ государства и права и граждановедения (хотя последнее название мне очень не нравится).
Борис СОКОЛОВ
Русский народ и государство - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вообще трусливость князя проявляется во множестве случаев, и трудно найти в былинах хотя один случай, где бы он проявил мужество. Отмечая трусость и слабонервность князя, «сказатели» весьма часто изображают его в положениях довольно комических. Достаточно вспомнить, например, сцену, когда великий князь от свиста соловьиного ползает "на карачках" по гриднице и Илья Муромец берет его под пазуху. [80] 80L с., стр. 229.
Нередко встречаются сцены унижения великого князя перед богатырями. Испугавшись "беды неминучей", Владимир не скупится на слезы и поклоны, чтобы только задобрить богатырей. При наезде Калина-царя "князь Владимир порасплакался, собирает могучих богатырей и могучим богатырям раскланялся". [81] Киреевский, Песни, т. I, стр. 30.
В другом варианте того же сюжета Владимир идет еще дальше в своем унижении: "Упадал Владимир князь Илье по праву ногу" или "бил ему челом до сырой земли". [82] Песни, собранные Рыбниковым, И. 1909–1910, т. I, стр. 115; т. III. стр.207.
Очень любопытны изображения моментов ссоры князя с богатырями. В былинах постоянно встречаются жалобы богатырей на Владимира, сетования на его неблагодарность, на то, что он не ценит народную, богатырскую силу. "Да не будем мы беречь, — говорят богатыри, — князя Владимира, да еще с Апраксеей королевичной, у него ведь еще много да князей бояр, кормит их да поит да жалует, ничего нам нет от князя от Владимира". [83] Гильфердинг, стр. 451.
Или вот что говорит про Владимира старый богатырь Самсон Самойлович своему крестнику Илье Муромцу: "Кладена у меня заповедь крепкая, не бывать бы мне во городе во Киеве и не глядеть бы мне на князя на Владимира и на княгиню Апраксию не сматривать. И не стоять бы мне за Киев-град: он слушает князей бояр, а не почитает богатырей". [84] Рыбников, т. III, стр. 210.
Таким образом, казацкая, народная сила противопоставляет себя князю и высшим классам и требует себе уважения. Дело доходит иногда до открытого столкновения с князем, которое изображается жуткими сценами обычного русского бунта.
Следующие картины, рисуемые народной фантазией, можно считать даже пророческими.
Князь устроил у себя пир, пригласил князей, бояр, богатырей, но позабыл позвать старого казака Илью Муромца. Здесь-то Илья рассердился, взял свой тугой лук, клал в него стрелочку каленую, стал стрелять он по Божиим церквам, по тем по чудным крестам, по золоченым маковкам, и пали золотые маковки на землю. И закричал Илья на всю голову: "Ах вы голи мои, голи кабацкие, собирайтесь все сюда и обирайте маковки золоченые и пойдемте все со мной пить зелено-вино". Пошел русский неистовый пир. Князь же Владимир видит, что пришла беда неминучая, прекратил он свое пиршество, созвал на совет князей, бояр, богатырей и стал спрашивать, что ему делать. Решили послать к Илье Добрыню Никитича, по изображению былин богатыря знатного и великого дипломата. Он уговорил Илью, отошла его обида, пошел к Владимиру, посадили его за стол на первое место, дали чару зелена вина. Говорит тогда Илья Владимиру: "Как бы ты не послал ко мне Добрыню Никитича, натянул бы я свой тяжелый лук, а убил бы тя князя со княгинею. А теперь я тебя прощаю за твою великую обиду"… [85] Ср. Рыбников, т. I, стр. 18; Гильфердинг,? 47,76.
Казацкий идеал можно назвать идеалом народным, демократическим. Согласно нему главная политическая сила — это народ, олицетворенный в образе мифической, богатырской силы, в образе крестьянского сына, вольного казака Ильи Муромца и других богатырей, символизирующих также народную, земскую мощь. Но в то же время это демократия первобытная, кочевая, политически аморфная, полуанархическая. В ней нет места какому-нибудь организующему началу, нет места праву. На основе такого демократического быта может строиться степная казацкая вольница, но на ней не построишь никакого государственного порядка.
Казацкий политический идеал есть идеал романтический, соответствующий Руси удельного периода, быту Запорожской Сечи, полукочевым условиям русских степей. Оттого он и лишен практической политической программы, не обладает никаким планом собственного государственного строительства. В русской истории был целый ряд моментов, когда казацкий идеал из мечты становился действительностью.
Таково было Смутное время, бунт Стеньки Разина, бунт Пугачева. В Смутное время казаки стояли какой-то период у власти, имели своего князя на манер былинного. Пугачев почти что захватил Россию и еще один момент он был бы во главе русского правительства, поддерживаемого "кабацкими голями".
Нравы, которые господствовали в лагере Тушинского вора, или Пугачева, почти что дословно напоминали былинный княжеский быт. а сами казацкие властители стояли приблизительно в положении былинных князей. Последним словом политической мудрости всех этих движений было избрание царя по образу официального правителя России — объявление самозванца. Не построение новых политических форм, но беспомощное подражание старым такова особенность казацкого идеала.
Казацкий идеал, бесспорно, победил в России и в 1917 году, но здесь картина существенно меняется. Вместо самозванцев стало "государство советов" как особая форма русского восточного демократизма.
6
К политическим идеалам казачества примыкают идеалы русского сектантства.
Сектантские наши движения иногда смешивают с расколом, между тем различать их совершенно необходимо, несмотря на обнаружившееся в нашей истории слияние путей того и другого. Русское сектантство гораздо древнее, чем раскол, исторические корни его уходят в глубь истории московской Руси, примыкают по движениям стригальничества и жидовства. [86] Справедливые замечания по этому поводу можно найти у Иконникова, Опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории, 1869.
Раскол сам по себе не породил сектантства, но только создал благоприятную почву для развития сектантских движений. Распавшись в своем развитии на различные течения, раскол в некоторых крайних своих проявлениях соприкоснулся с сектантством, так что границы между ними сгладились и утратилась резкость переходов.
Но по духу своему. как мы уже говорили, раскол был движением консервативным, сектантство же всегда было радикально. В расколе ничего не было от реформации, а сектантство наше питало дух реформаторства и заражено было его радикализмом.
В силу этого, как мы убедимся, политические идеалы русского сектантства были не схожи с политической программой старообрядчества.
Установление этих принципиальных отличий не препятствует тому, чтобы начать характеристику политических идеалов русского сектантства с той общей, отрицательной по отношению к государству струи, которая объединяла и раскол, и сектантство. И раскол, и сектантство исходили из неприятия русского правительства, расходясь только в степени, в которой это неприятие утверждалось. Старообрядцы считали правительство наше безблагодатным, но уже более радикальные старообрядческие течения называли правительство богопротивным и утверждали, что Антихрист, видимо, воплощается в лице правителей, которые сознательно творят волю дьявола (поморцы, новоже-ны, спасово согласие, кузьминовщина). Если сделать дальнейший шаг налево и перейти к безпоповству и к примыкающим к нему различным сектам, то они еще более усиливали отрицательное отношение к правительству, называя его прямо богоборным и отрицая обязательность подчинения всем существующим властям как влекущим подданных в руки дьявола. Еще решительнее поступало левое крыло сектантов (все пророчествующие секты и секты рационалистические — молокане, духоборы и т. д.), признающие русское государство с самого его начала противным Богу и принявшим вместо истинной веры, богопротивную ересь. [87] Ср. Мельников, Записка о русском расколе, перепеч. у Кельсиева, Сборник правит, свед. о раскольниках, т. I, Лондон, 1860, стр. 196.
Интервал:
Закладка:
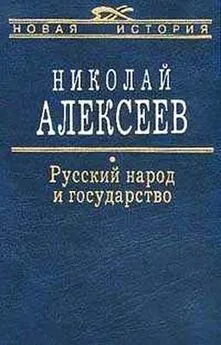
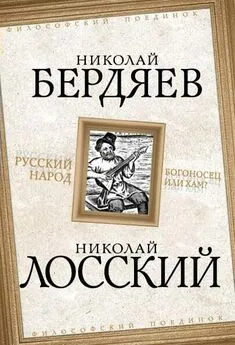
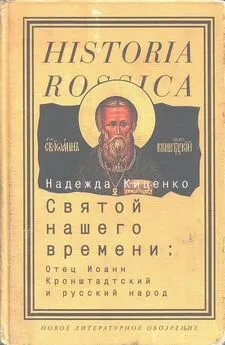
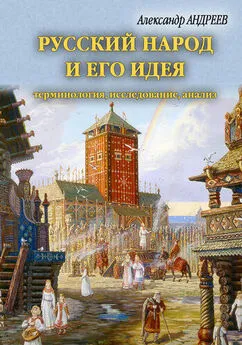
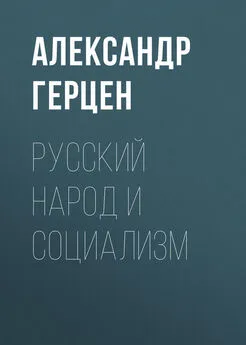
![Михаил Алексеев - Русский характер [Рассказы, очерки, статьи]](/books/1086115/mihail-alekseev-russkij-harakter-rasskazy-ocherki.webp)