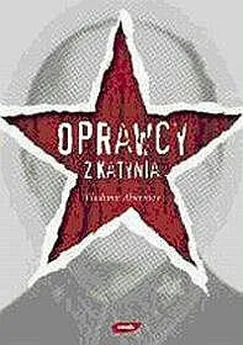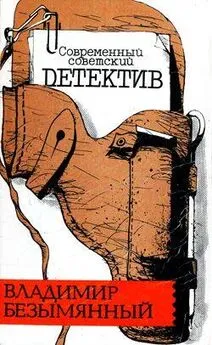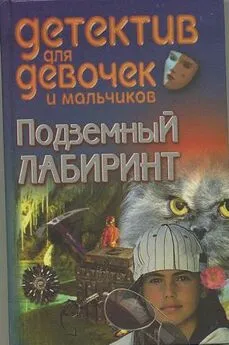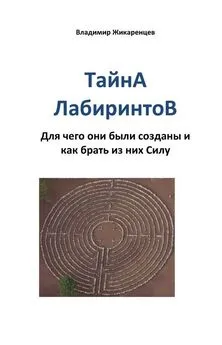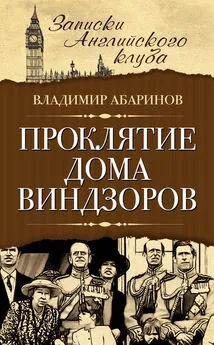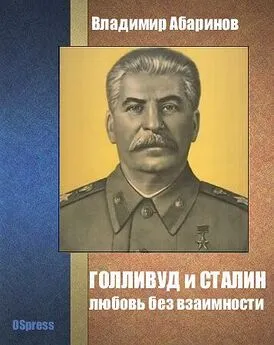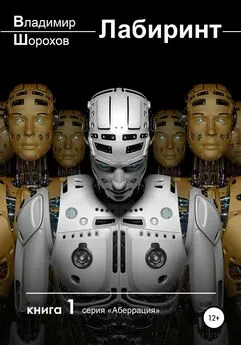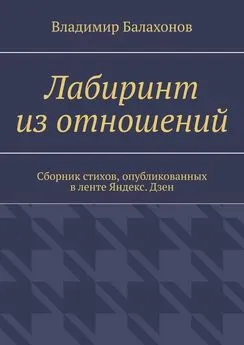Владимир Абаринов - Катынский лабиринт
- Название:Катынский лабиринт
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Абаринов - Катынский лабиринт краткое содержание
Это «белое пятно» принадлежит к числу самых заскорузлых и болезненных. По остроте и значимости оно сравнимо разве что с проблемой секретных советско-германских протоколов 1939 года. Почти полвека катынский синдром отравлял нормальные добрососедские связи между двумя странами.
Катынский лабиринт - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Назову уж, кстати, и репертуар, почерпнутый мною из дневника Юзефа Зентины, который был обнаружен в катынском захоронении при трупе владельца: «Александр Невский», «Поэт и царь», «Волга, Волга», «Мы из Кронштадта», «Великий гражданин», «1919 год». «Мать», «Чайка», «Человек с ружьем», «Детство», «Чудо святого Йоргена», «В людях», «Возвращение Максима», «Ленин в 1918 году», «Чапаев», «Выборгская сторона», «Девушка с характером», «Цирк» и т. д. Фильмы демонстрировались через день, а иногда и два дня подряд. Имеется, кроме того, запись о концерте, состоявшемся 23.11.1939, — участвовали в нем местные школьники. [39] Pamietniki znalezione…, ss. 200 212. В дневнике Зентины находим, кроме того, и точную дату разрешения переписки — это произошло 20.11.1939.
В подборе фильмов никакой тенденции не заметно за единственным исключением: «Александр Невский», законченный Эйзенштейном в 1938 году, был изъят из проката сразу после заключения советско-германского пакта о ненападении и вновь появился на экранах лишь в начале войны, так что в данном случае перед нами вариант «закрытого просмотра», возможно, имеющего целью активизировать антигерманские настроения поляков; если это так, администрации лагеря нельзя отказать в дальновидности, ведь позиция официальной советской пропаганды была в то время определенно прогерманской.
Покойный Валентин Левашов был в хороших отношениях с обитателями лагеря: кто-то из пленных смастерил в подарок ему мандолину, которую он взял с собой на фронт, где она и пропала в 1943 году вместе с самим Валентином. Была у Клавдии Васильевны еще деревянная крашеная-перекрашенная скамеечка, изготовленная тоже пленными, но за полгода до нашей встречи подарила она ее приезжим полякам. [40] Из-за этих хороших отношений случилась с Валентином серьезная неприятность. В политдонесении комиссара Управления по делам о военнопленных Нехорошева на имя Меркулова (ЦГОА, ф. 3/П, оп. 1, д. I, лл. 145–153) читаем: «Незначительная часть военнопленных все же не верит в отправку домой, исходит из того, что всех отправляемых тщательно обыскивает конвой и что везут в тюремных вагонах. Военнопленные пытаются обрабатывать обслуживающий персонал и выяснять у обслуживающею персонала, куда их отправляют. Установлено, что сведения о перевозке в тюремных вагонах проникли в лагерь от киномехаников Левашова и Горшкова. Обслуживающий персонал крепко предупрежден в связи с этим». И далее там же: «С целью наибольшей изоляции военнопленных от обслуживающего персонала последний в зоне лагеря сокращен до минимума, остальным доступ в лагерь ограничен». Уж не знаю. чувствовали ли мать и сын Левашовы слежку за собой, но в том, что она велась, сомневаться не приходится. Доказательство — директива Берии «по оперативно-чекистскому обслуживанию военнопленных», параграф 7 которой гласит: «В целях своевременного выявления и предотвращения возможных фактов использования военнопленными в преступных целях отдельных лиц из обслуживающего персонала лагеря (передача сообщений, писем, подкуп в целях побега) наряду с инструктажем и политической работой. проводимой администрацией и политаппаратом лагеря, особые отделения лагерей обеспечивают агентурным обслуживанием надзирательско-конвойный состав лагеря и окружающие лагерь населенные пункты». (Там же, ф. 451/П, оп. 1, д. 1, лл. 17–20).
Решительно ничего о событиях весны 1940 года никто из коренных оптинцев припомнить не мог, расстрел же военнопленных находили вполне возможным и даже в то жестокое время естественным.
Работали пленные и в лесу на заготовке дров. а весной 1940-го спиливали вымерзший яблоневый сад. Помнит еще Клавдия Васильевна, как летом 1941-го строем уводили поляков из лагеря — было их, по ее подсчетам, человек 50.
Итак. санаторий в Оптиной Пустыни существовал до 20.9.1939, лагерь военнопленных — с 25.9.1939 (дата откомандирования конвойной роты) по 27.7.1941. Ну а во время войны в монастыре размещался госпиталь: и Ольга Демьяновна. и Валентин по-прежнему работали там — она прачкой, он, пока не призвали в армию, киномехаником.
К рассказу К. В. Ярошенко осталось добавить немногое.
Большинство польских военнопленных в СССР составляли офицеры запаса, мобилизованные в начале войны. В частности. среди узников Козельска были 21 профессор высших учебных заведений, более трехсот врачей, военных и гражданских. более ста литераторов и журналистов, много юристов. инженеров и учителей, а также около десяти капелланов и один штатский священник. Режим в лагере отличался сравнительной либеральностью, хотя. например, как пишет Свяневич. «любые публичные моления в лагере были строго запрещены, поэтому службы наши принимали характер псрвохристианских катакомбных молений». Именно это обстоятельство впоследствии почти на четыре месяца продлило жизнь ксендзу Яну Зюлковскому, который в момент вывоза из лагеря священников как раз отбывал в карцере наказание за отправление требы, и о нем попросту забыли. Узники регулярно слушали советское радио, читали советские газеты, в частности областную смоленскую «Рабочий путь», и, судя по дневникам, внимательно следили за развитием событий в Европе. Сганислав Свяневич упоминает организованный узниками ежедневный устный журнал, который редактировали студент Виленскою университета подпоручик Леонард Коровайчик и доцент Познаньского университета поручик Януш Либицкий (оба идентифицированы среди катынских трупов). 19 марта 1940 года, в день Св. Йозефа, журнал был целиком посвящен памяти маршала Пилсудского.
«В лагерях. — отмечает Леопольд Ежевский, — в особенности в Козельске и Старобельске, атмосфера была спокойная, даже оптимистическая» . Наиболее вероятным вариантом считалась передача пленных союзникам одной из нейтральных стран. В худшем случае, полагали поляки, их выдадут немцам. Между тем прибывшие из Москвы энкаведисты приступили к работе.
Основным содержанием деятельности чинов НКВД в лагере была фильтрация пленных для дальнейшего так называемого «оперативно-чекистского обслуживания». На каждого было заведено досье. Узников допрашивали, иногда по нескольку раз, причем следователи поражали собеседников своей осведомленностью.
Старшим в этой команде был «комбриг» Зарубин. Он отличался от прочих своих коллег редкой образованностью. изъяснялся на нескольких языках, был приятен в общении. «Отношение этих офицеров (следователей НКВД. - Авт. ) к пленным в Коэельске было более или менее корректным. — пишет Свяневич, — но комбриг был в этом смысле не только безупречен, но и обладал манерами и лоском светского человека». [41] Zbrodnia Katynska w swiette dokumentow. GRYF, London 1986, s. 27.
Зарубин привез с собой небольшую. но хорошо подобранную библиотеку в 500 томов на русском, французском, английском и немецком языках и охотно позволял пленным пользоваться ею; была там, к примеру, книга Черчилля «Мировой кризис», имевшая огромную популярность в Козельском лагере. Интересно, гго майор ГБ Зарубин был единственным энкаведистом, которому пленные по приказу генерала дивизии Минкевича (старшего по званию в лагере) отдавали честь. Лагерное начальсгво беспрекословно выполняло распоряжения «комбрига», в частности, о переводе из одного барака в другой: Зарубин раскладывал свой, малый, пасьянс. «Мне он напоминал образованных жандармских офицеров царской России», — замечает Свяневич, и эго, пожалуй, самая выразительная характеристика Зарубина.
Интервал:
Закладка: