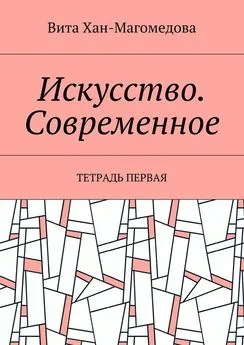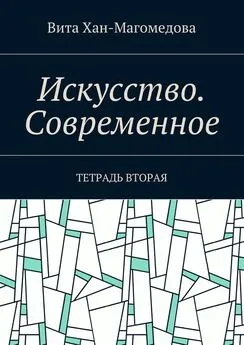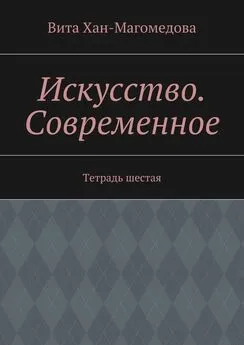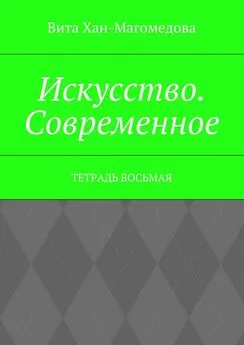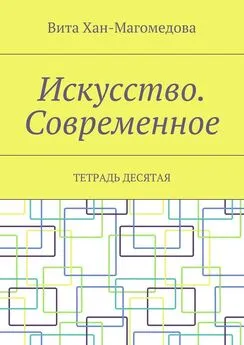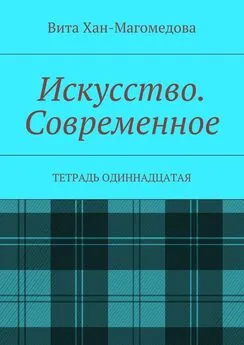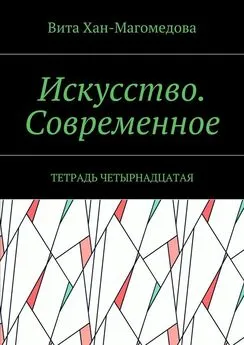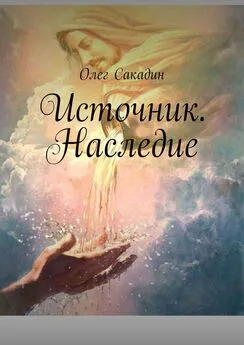Олег Вите - Творческое наследие Б.Ф. Поршнева и его современное значение
- Название:Творческое наследие Б.Ф. Поршнева и его современное значение
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Вите - Творческое наследие Б.Ф. Поршнева и его современное значение краткое содержание
Поводом для написания статьи послужило выступление автора на междисциплинарной конференции «Общественный человек и человеческое общество (памяти Бориса Федоровича Поршнева)», проведенной в Российском общественно-политическом центре при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований в сентябре 1998 года. Сокращенная версия статьи опубликована в журнале Полития, 1998, # 2.
Творческое наследие Б.Ф. Поршнева и его современное значение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Или в другом месте:
«Чем был бы древний Рим без непрестанно пополнявшихся рядов германских, кельтских, славянских и прочих рабов, строивших города и дороги, храмы и дворцы, возделывавших поля и создававших роскошь? Но в то же самое время разве кто-нибудь умел в варварской глуши своей родины выполнять именно такую работу, которую потребовали от него новые господа?» [35] Там же, с. 510.
Этими особенностями рабовладельческая система отличается от феодальной и наиболее выпукло — от буржуазной: в последних «основной производящий класс» вполне «уживается» внутри государственных границ. «Внешние захваты» при феодализме или капитализме, разумеется, имели место, но выполняли, главным образом, противоположную функцию. В рабовладельческой системе отказ от масштабных внешних захватов грозил неизбежным упадком и торможением поступательного развития, тогда как при капитализме тормозом поступательного развития оказывался, напротив, именно переход к таким захватам, ибо, смягчая классовые противоречия, позволял обойтись без развития, как говорят марксисты, производительных сил и производственных отношений, которое «внутри» уже стало необходимым.
Поршнев предлагает более широкий взгляд на рабовладельческое общество:
«При более широком взгляде представляется, что „варвары“ и „греки“, „варвары“ и „римляне“ были органически прикованными друг к другу половинами или полюсами сложного огромного единства. Это было антагонистическое единство. При этом не только рабовладельческое государство нельзя мыслить себе вне окружающей варварской среды — источника всех его жизненных сил.
Сами варварские народы подверглись глубокой трансформации в условиях этого великого противостояния». Из всех гипотез, предложенных для объяснения причин возникновения у варварских народов так называемых «военных демократий», — продолжает Поршнев, — «особенно заманчивой представляется та, которая видит в этой своеобразной государственности, возникшей раньше возникновения классов, государственность, обращенную вовне, порожденную непосредственно или опосредованно существованием военной угрозы со стороны ближе или дальше лежащего рабовладельческого государства». [36] Там же, с. 511–512.
Поршнев подчеркивает, что описанная им специфика рабовладельческого общества может быть обнаружена по всему миру:
«В античном мире такая граница, как Римский вал, отделяет не одну „страну“ от других, а сложную совокупность рабовладельческих территорий и популяций, охваченных некоей политической общностью, от множества окрестных, но неотторжимых от этой общности варварских племен и народов, где воспроизводится основная производительная сила самого античного общества». [37] «Мыслима ли история одной страны? Историческая наука и некоторые проблемы современности. Статьи и обсуждения.» Ред. коллегия: М.Я. Гефтер (отв. ред.) и т. д. — М.: Наука, 1969. С. 305.
«Великие рабовладельческие державы древнего Ирана, древней Индии, древнего Китая, эллинистических государств Азии были окружены такими же океанами бьющихся об их берега варварских народов, то оборонявшихся, то нападавших, выражавших не в меньшей мере, чем на Западе, нечто отнюдь не „внешнее“, а внутренний антагонизм древнего мира как поляризованного целого. Чем глубже становилась эта поляризация, чем отчетливее она материализовалась в форме всяческих китайских стен и римских валов, тем неизбежнее приближался час прорыва». [38] «Феодализм и народные массы.» — М.: Наука, 1964. С. 512.
Тем самым приближался час «феодального синтеза», того революционного процесса диффузии двух половин или полюсов рабовладельческого целого, из которого вырастет уже феодальное общество.
Почему, однако, в группу классических рабовладельческих обществ не попал древний Египет и другие подобные ему цивилизации? Анализ развития различных рабовладельческих обществ привел Поршнева к выводу о возможности выделить «в широком смысле» три ступени развития рабовладельческого строя:
«1) домашнее (или патриархальное) рабство, являющееся если не полностью, то в значительной степени экзогенным;
2) более развитое рабство древневосточных обществ, имеющих тенденцию поработить население внутри страны и закрепить его порабощенное положение;
3) античное рабство, являющееся снова по преимуществу экзогенным и связанное с решительным запрещением обращать в рабство сограждан». [39] Там же, с. 510.
Цивилизации, в которых переход со второй ступени на третью по каким-либо причинам оказался заблокирован, утратили возможность дальнейшей эволюции по пути «рабовладельческого прогресса». Поэтому примеры ярких исторических тупиков, в которых они оказались, лишь подчеркивают безальтернативность описанного выше пути поступательного исторического развития через третью ступень рабства к феодальному синтезу.
Поршнев не мог не понимать, что излагаемая концепция эволюции рабовладельческой формации и ее революционной трансформации в феодальную автоматически ставит под сомнение один из официальных предметов «советской гордости»: отечественная история не знала рабства. Ведь характер связи Киевской Руси с Восточно-Римской империей, с Византией, очевидно, укладывается в общую логику: Русь действительно не была рабовладельческим государством, поскольку была источником пополнения рабов для такого государства в рамках единого социального организма.
Поэтому Поршнев ограничился предельно осторожным рассуждением на эту тему:
«Но ведь отнюдь не лишено объективных оснований и отнюдь не обидно ни для западноевропейских стран, ни для России, что Киевская Русь стоит к Восточной Римской империи примерно в таком же историческом отношении, как Франкское государство — к Западной Римской империи». [40] Там же, с. 513.
В своем анализе «рабовладельческой формации» Поршнев не ограничился решительным пересмотром понятия «рабовладельческое общество». Он предложил столь же серьезный пересмотр и понятия «рабство», о чем будет сказано ниже в разделе Философия истории как социальная философия.
В заключение темы единства истории приведу одно характерное методологическое замечание Поршнева:
«Подлинный историзм должен всегда видеть целый процесс исторического развития человечества и, сравнивая любые две точки, соотносить их с этим целым процессом. […] Только такой взгляд дает мировой истории подлинное единство. Тот, кто изучает лишь ту или иную точку исторического прошлого или какой-либо ограниченный период времени, — не историк, он знаток старины и не больше: историк только тот, кто, хотя бы и рассматривая в данный момент под исследовательской лупой частицу истории, всегда мыслит обо всем этом процессе». [41] «О начале человеческой истории (Проблемы палеопсихологии).» — М.: Мысль, 1974. С. 24, 25. Ср.: «О начале человеческой истории. Философские проблемы исторической науки.» — М.: Наука, 1969. С. 95.
Интервал:
Закладка: