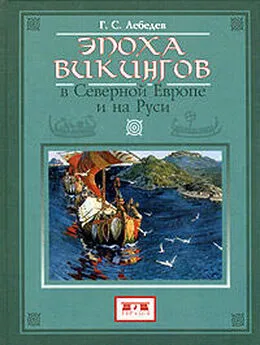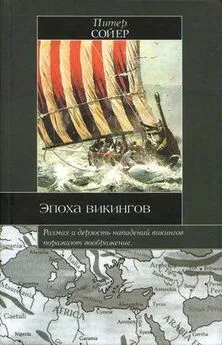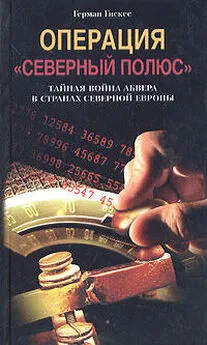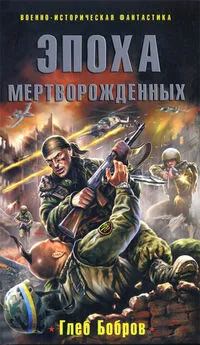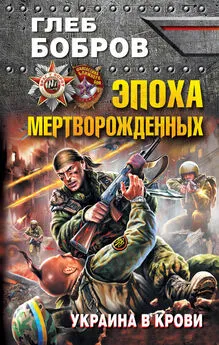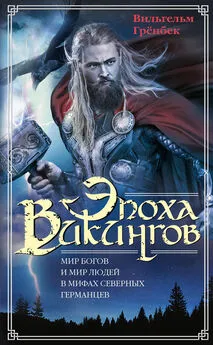Глеб Лебедев - Эпоха викингов в Северной Европе
- Название:Эпоха викингов в Северной Европе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Ленинградского университета
- Год:1985
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Глеб Лебедев - Эпоха викингов в Северной Европе краткое содержание
Монография посвящена малоисследованной в советской исторической литературе теме — заключительному этапу перехода народов Европы от первобытнообщинного строя к классовому обществу. В ней рассматриваются основные этапы деятельности викингов в Западной Европе, показана несостоятельность норманистстских построений буржуазной историографии. Впервые на конкретных данных истории, археологии, нумизматики и языка раскрывается значение Древней Руси для внутреннего развития скандинавских стран, показано ведущее место Древнерусского государства в международных связях народов Балтийского региона, роль варягов в истории Киевской Руси IX–XI вв.
Эпоха викингов в Северной Европе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Существенным элементом русско-скандинавских отношений, связанных с Новгородом, была установленная при Олеге дань в 300 гривен (75 северных марок серебра), которая выплачивалась варягам «мира деля» вплоть до смерти Ярослава Мудрого в 1054 г. По социальным нормам, реконструированным для Скандинавии эпохи викингов, этой суммы было достаточно для содержания небольшого отряда (в несколько кораблей), способного защищать безопасность плавания в «Хольмском море», Финском заливе (Hólmshaf). Откупаясь от набегов викингов и обеспечивая силами союзных варягов свои интересы на море, новгородское боярство (как и Византийская империя в аналогичных ситуациях) выступало как крупная организующая сила, осуществляющая целенаправленную государственную политику Верхней Руси [186, с. 299–300].
Система отношений, включавшая такой откуп, равно как постоянное содержание наемной варяжской дружины при князе, сложилась, по-видимому, к концу IX в. Отношения в более ранний период развивались в несколько иных формах. Определенная часть норманнов, как и в Ладоге, и в южном Приладожье, влилась в состав местного населения, что проявилось в летописном указании на «людье ноугородьци от рода варяжьска» [ПВЛ, 862 г.]. Приуроченные летописью к 864 г., такого рода славяно-варяжские связи в Новгороде развивались, очевидно, на протяжении всего IX в. Ославянившиеся норманны слились с другими кланами новгородского боярства, и уже в середине столетия политические цели этих варяжских потомков были резко противоположны целям как находников, так и наемников, и даже целям возводивших себя к Рюрику князей.
Славяно-скандинавский синтез в Новгороде, еще в большей степени, чем в Ладоге и Приладожье, проходил при постоянном преобладании местного, славянского компонента. До конца IX в. (эпохи Олега) он, по существу, не влиял на положение в других русских землях. Однако своеобразие политической, экономической (в аспекте внешних связей), культурной жизни Верхней Руси, в значительной мере определялось длительным, на протяжении последних десятилетий VIII, всего IX, X и XI вв. взаимодействием славян и скандинавов. Эти отношения прошли сложный путь: от первых, эпизодических контактов дружин воинов-купцов, продвигавшихся по неведомым еще водным путям в глубины лесной зоны северной части Восточной Европы, к совместным поселениям на важнейших магистралях, в окружении автохтонных финских племен; затем — к социально-политическому партнерству наиболее активных общественных групп. В этом сотрудничестве перевес неизбежно оказывался на стороне словен ильменских, опиравшихся и на ресурсы собственного племенного княжения, и на поддержку родственных образований в соседних областях. Часть варяжской знати либо слилась с местным боярством, либо вошла в состав отчасти противостоящего этому боярству, но в целом — служащего его интересам военно-административного аппарата (князь с дружиной). Именно к этому аппарату примыкали в дальнейшем новые контингента варягов, выступавшие на Руси в качестве наемных дружин. Традиционные, на протяжении трех столетий связи обеспечили их развитие на новом уровне — княжеско-династическом, отразившемся в художественных произведениях феодальной культуры. Именно поэтому Новгород — Хольмгард, как ни один другой русский город ярким и сказочным вошел в тексты скандинавских саг.
Роль остальных центров Верхней Руси в развитии русско-скандинавских связей может быть освещена лишь на основе археологических данных, значительно уступающих обилию материалов Новгорода и Ладоги.
Псков приобретает черты города на рубеже IX–X вв. (Псков — Г, по С.В.Белецкому), когда рядом с древним мысовым городищем Крома появляется обширный посад. Керамический комплекс этого времени насыщен западнославянскими элементами; население города, впитавшее какие-то группы новых поселенцев, занималось ремеслом и торговлей. Скандинавские вещи, «гибридные» изделия местного ремесла, равно как и погребения по варяжскому обряду в городском некрополе (две камерные гробницы, сожжение с набором скорлупообразных фибул) свидетельствуют о скандинавском элементе в составе населения Пскова и, в частности, о присутствии варягов в дружине [18, с. 15].
Изборск, упомянутый в «предании о варягах», уже в VIII–IX вв. был значительным центром славянского населения в южном прибрежье Псковского озера. Укрепленное поселение на так называемом Труворовом городище до начала X в., по заключению, основанному на многолетних исследованиях В.В.Седова, сохраняло протогородской характер. В X в. укрепления Изборска перестраиваются, наряду с детинцем формируется торгово-ремесленный посад. Здесь производились гребни, аналогичные староладожским и другим североевропейским формам, известны отдельные скандинавские вещи (серебряная фибула, шпоры «викингского типа»). На рубеже XI-ХII вв. в Изборске были сооружены каменные укрепления, в это время он становится важнейшей пограничной крепостью на подступах к Пскову [195; 196; 197].
Полоцкое городище, существовавшее до 980 г., исследовано в очень небольшом объеме. Находки в его окрестностях (клад дирхемов 40-х годов X в., франкский меч) свидетельствуют о том, что город, возникший в VIII–IX вв., принимал активное участие в системе внешних связей, охватывавшей другие рассмотренные русские центры [245].
Материалы западных районов Верхней Руси и прилегающих областей в целом не противоречат известиям летописи о русско-скандинавских отношениях IX–X вв.; однако они и не дают столь ярких и детальных свидетельств о развитии этих отношений, как данные археологии и письменных источников для Ладоги и Новгорода. Это не случайно — активность норманнов была направлена прежде всего на магистральные водные пути, а в IX в. — преимущественно к непосредственным источникам арабского серебра, на Волжский путь; лишь взаимодействие со славянами во всех основных восточноевропейских центрах балтийско-волжской торговли привело их к переориентации не только на Новгород, но и на другие, более южные русские центры.
Это обстоятельство отмечено и «Повестью временных лет», сообщившей о расширении первоначального «княжения» Рюрика именно в восточном и юго-восточном направлениях, от Белоозера — к Ростову и Мурому. В материалах памятников этого региона имеются подтверждения ранней активности скандинавов на землях формирующейся северо-восточной Руси, в IX в. тесно связанной с Верхней Русью. По мнению современного исследователя этого региона И.В.Дубова, основной поток славянской колонизации Волго-Окского междуречья шел в это время с Северо-Запада, и в потоке славянского (а также ассимилируемого финно-угорского) населения сюда проникали и отдельные группы варягов [70, с. 33–37]. Скандинавские находки известны у д. Городище в окрестностях летописного Белоозера [40, с. 131–137; 41, с. 186–187], на Сарском городище под Ростовом [120, с. 20], в погребениях владимирских курганов [190, с. 243]. Наиболее ранние и выразительные скандинавские комплексы сосредоточены в курганных могильниках Ярославского Поволжья, Тимеревском, Михайловском, Петровском, при которых располагались открытые поселения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: