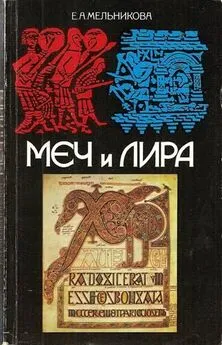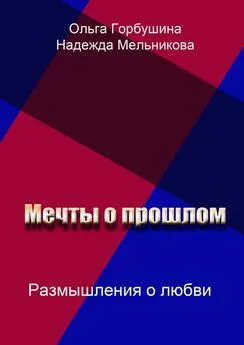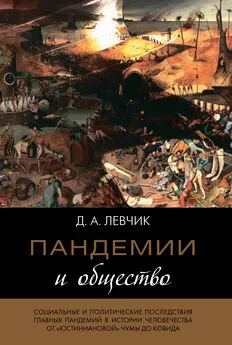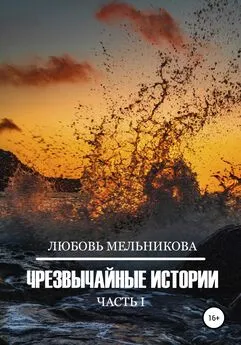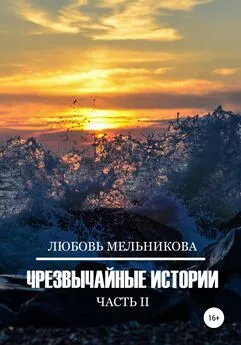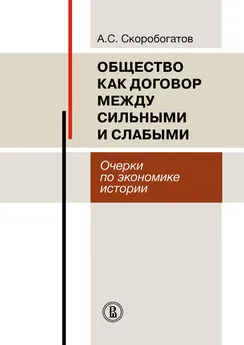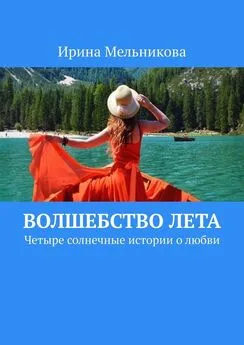Е Мельникова - Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе
- Название:Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Е Мельникова - Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе краткое содержание
Книга посвящена истории Англии VIII-X веках. Одним из исторических источников этой эпохи является англосаксонский эпос. Малоизвестные до сих пор советскому читателю разно-жанровые эпические памятники англосаксов в поэтическом, идеализированном образе героического мира воссоздают жизнь дружинной среды периода зарождения и становления феодальных отношений в Англии.
Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
музыка пиршества — безмолвию жилища изгнанника в элегиях; благородство Бюрхтнота — коварству и алчности викингов и т. д. Поэтому мир чудовищ предстает в целом как инвертированный мир героев. Оба обладают одними и теми же характеристиками, но имеющими знак плюс или знак минус.
Таким образом, эпический мир англосаксов качественно единообразен и представляет структурное целое; присущая же ему дихотомия воплощается в формах инверсии.
Вместе с тем в теме пира проявляются наиболее явственно и представления создателей англосаксонского эпоса о миропорядке, социальной структуре общества, его функционировании. Но поэтическое преломление существенно трансформирует англосаксонскую действительность в устах певца. Тщетны были бы попытки провести прямые параллели между отдельными эпизодами или упоминаниями и конкретными историческими фактами, хотя они и делались не раз10. Да, конечно, Хигелак дарит Беовульфу после его возвращения от данов землю с домами и дворцом—земельные пожалования хорошо известны по грамотам. Да, конечно, захоронение Рэдвальда совершено по обряду, близкому описанному в «Беовульфе», а королевская резиденция Хродгара—Хеорот и какие-то примыкающие к нему постройки, куда Хродгар с домочадцами отправляется ночевать после пира, соответствует археологической реконструкции бурга. Все это так. Однако отсутствие примет исторической эпохи в самих сюжетах «Беовульфа», элегий, поэм на религиозные темы позволяет отнести их к любому времени. Поэтому, хотя жизнь Беовульфа, например, и события, упомянутые в поэме, приурочены к IV—VI вв., исторические реалии и описания уклада жизни относятся и к значительно более позднему времени — VII—VIII вв. Более того, они постоянно изменяются, отражая различные этапы в развитии англосаксонского общества. Каждое поколение добавляет в повествование штрихи настоящего. Благодаря этому настоящее сливается с прошлым, события, имевшие место много веков назад, являются для слушателей такой же реальностью, как и то, что происходит на их глазах.
Нарушение исторической перспективы и принципиальная невозможность сколько-нибудь адекватного отражения одного временного среза в эпических памятни-
ках приводят к тому, что героическое общество как поэтический образ обретает устойчивость и незыблемость основных черт. Наиболее подробно изображенное в «Беовульфе», оно чрезвычайно далеко от общества реального. Лишь одна социальная ячейка отражается в нем: король и его дружина, замещая в поэтической системе все многообразие и сложность социальных связей англосаксонского мира. Идеальный господин и идеальный вассал, свято хранящие взаимную верность и неуклонно соблюдающие свои обязанности, составляют героическое общество. Эта двучленная структура может модифицироваться: господин — дружинный певец, бог — святой, но ее сущность остается неизменной, как не подвержены переменам и узы, скрепляющие это общество. Основанный на справедливости, строгом следовании традиционным нормам, долге верности, героический социум являет картину всеобщего (в его собственных рамках) благоденствия и гармонии — идеализированное воплощение чаяний и устремлений свободного англосакса.
Принципиальная общность (но не тождественность) эпического мира англосаксов в произведениях разных жанров поддерживается и рядом других элементов: двучленностью мира и последовательной противопоставленностью его отдельных элементов, исключительностью по своей значимости событий, происходящих в нем, и т. д. Но особенно существенным представляется понимание героики в различных жанрах эпических памятников, отражающее единство поэтического мировосприятия их создателей. Устойчивые, традиционные черты этой концепции, понимаемой прежде всего как максимально полное, завершенное — вплоть до физической гибели — исполнение долга, абсолютное проявление героической сущности персонажа сохраняются на всем многовековом протяжении существования эпической традиции. Неизменны такие черты героического, как его реализация в действии, масштабность (реальная или мнимая) конфликта, центральное место героя, вокруг образа которого строится повествование. Героический идеал не утрачивает своего основополагающего значения даже для создателей наиболее поздних памятников— исторических песен; в них, как и в элегиях, именно с ним соотносится, им поверяется все изображаемое.
Вместе с тем конкретное воплощение героического в памятниках разных жанров претерпевает немалые изменения. Происходят постепенная индивидуализация, приземление героики, обращение от абстрактных времен-
ных сюжетов к конкретно-историческим темам. Вместо судеб народов (пусть и состоящих подчас — в поэтическом изображении — из трех-четырех десятков человек), как в традиционном героическом эпосе, рассказчика начинает все в большей степени интересовать персональная судьба героя, и лишь его одного. В элегиях герой заслоняет собой весь мир, в религиозном эпосе конфликт ограничивается личной борьбой святого с дьяволом или полчищами язычников, и значение этого противоборства состоит не в его воздействии на судьбы христианского мира (обращение язычникев, укрепление христиан в вере предрешено и не может вызвать сомнения), а в его личной сопричастности извечному сражению между богом и сатаной и в индивидуальной победе святого, ведущей его к вечности. Лишь в малой степени соотносит поэт события исторических песен с ходом борьбы англичан со скандинавами. На первом плане — судьба героя, и лишь через ее призму видится ему все происходящее.
Эта общая тенденция к «приземленное™», конкретизации и индивидуализации повествования обусловила и другие изменения героического мира: его внешнего облика и предметных атрибутов, постепенное уменьшение количества оппозиций, членящих мир на два противоборствующих лагеря, вплоть до уничтожения внешних различий между воинами, верными Бюрхтноту и предавшими его. Теряют свою героическую условность пространство и время, так что в исторических песнях они максимально, насколько это возможно для художественного произведения, сближены с реальностью. Тем не менее все эти отличия представляются не более чем вариантами единого в своей сущности мира эпической поэзии англосаксов, мира героики и идеального общества, зиждущегося на неуклонном выполнении героического долга.
Заключение
Более ста лет продолжается изучение исторических основ эпических памятников: русских былин, юнацкого эпоса южных славян, французских «песен о деяниях», верхненемецких поэм о Дитрихе Бернском, германского сказания о нибелунгах, англосаксонского «Беовульфа». И хотя ныне историзм героического эпоса и, шире, фольклора сомнений не вызывает1, его формы и характер в различных фольклорных жанрах требуют дальнейших исследований. Методы старой исторической школы (и в отечественной, и в зарубежной науке), представители которой основную задачу видели в установлении конкретных исторических событий и лиц, запечатленных в отдельных эпических произведениях, уступили место более широкому пониманию фольклорного историзма как своеобразного отражения действительности. Причем способы отражения, степень охвата действительности, вычленение каких-то определенных ее сторон—все эти и многие другие особенности определяются жанровыми признаками произведения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: