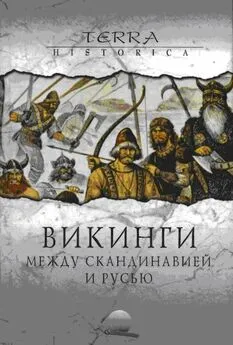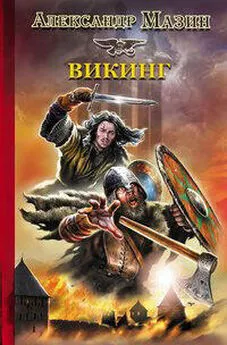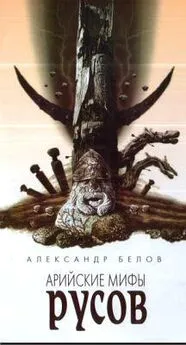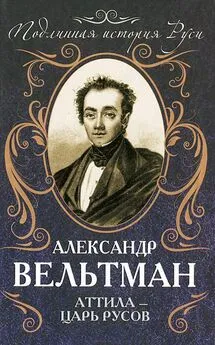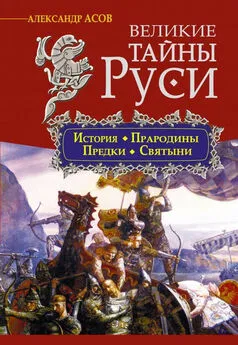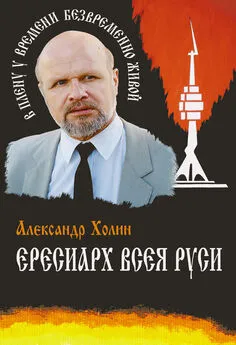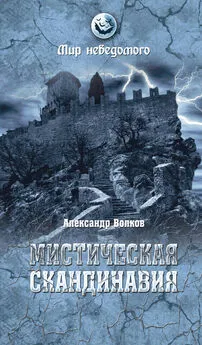Александр Фетисов - Викинги. Между Скандинавией и Русью
- Название:Викинги. Между Скандинавией и Русью
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательский дом «Вече»
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:ISBN 978-5-9533-2840-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Фетисов - Викинги. Между Скандинавией и Русью краткое содержание
Хорошо ли мы знаем, кто такие викинги - эти великие и суровые воители Севера? Какую роль они сыграли в истории Руси? Уже написано немало книг о викингах, об их боевых походах и океанских странствиях — вплоть до Гренландии и Северной Америки. Но с каждой, неизвестной прежде сагой (а именно такая встреча ожидает читателя в этой книге!) мы открываем для себя заново забытый мир, в котором слагают свои песни седые скальды, и воины бестрепетно встречают смерть, зная, что им завещана светлая Валгалла.
Викинги. Между Скандинавией и Русью - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Один — верховное божество языческого пантеона древних скандинавов, покровитель дружинников, «смотрящий» за битвами, пристрастный судья победы и поражения, хозяин «казарменного рая» Вальхаллы, куда попадают погибшие в бою воины. [42] Палссон Херманн. Одиническое в «Саге о Гисли» // Другие средние века. К 75-летию А.Я. Гуревича. СПб., 2000. С. 253–266.
Один — странник, поэт, колдун, некромант, воин, искатель мудрости, развлечений и приключений. [43] Карлежь Т. Теперь и прежде. Герои, почитание героев и героическое в истории. М, 1994. С. 6–37.
Кроме эйнхериев, его окружают берсерки (безумные воины, обладавшие сверхчеловеческой силой) и валькирии — воинственные девы, дарующие в бою победу. Он стоит вне морали; его мораль — власть и сила. Религиозный культ Вотана (Одина), который, по меткому замечанию средневекового хрониста Саксона Грамматика, воплощал бешенство, боевой «фурор», предполагал вечную готовность к битве или поединку, чем создавал необходимую атмосферу в воинских коллективах. С культом Одина связаны ритуалы человеческих жертвоприношений, жестоких казней, суицида и пыток (через которые прошел сам Один, провисевший девять дней на Мировом Древе с пробитым копьем боком). В «Саге о гутах» есть упоминание о культовом «одиническом» союзе, товариществе «Кипятящих» жертвенное человеческое мясо. [44] Сага о гутах / Пер. с древнегутского и прим. С.Д. Ковалевского // Средние века. 1975. Вып. 38. С. 307–311.
Один всегда стремится узурпировать роли и функции других божеств, оттесняет их от власти, по сути, присваивает власть над асами и ванами. Так Один постепенно превращается из маргинального персонажа, «Отца ратей», «Отца Мертвых», «Повелителя Повешенных» в «Отца Асов» и «Повелителя Девяти Миров». Die Wilde Jagd, «Дикая охота Одина», сама по себе представляет союз отверженных воителей — вечно странствующее призрачное войско изгоев, преступников и самоубийц. [45] Ганина Н.А. Готская языческая лексика. М., 2001. С. 37–44.
Одиническая идеология играла роль психологического допинга профессиональных воинов. Крайний случай девиантного «одинического» поведения демонстрировали отряды берсерков. Хотя, конечно, рассказы о них приобретали откровенно фантастические, мифоэпические черты, полностью отрицать их «историчность» вряд ли возможно. [46] Ср. наивно-скептическую позицию: Либерман А.С. Германисты в атаке на берсерков // Древнейшие государства Восточной Европы. 2003 г. Мнимые реальности в античных и средневековых текстах. М., 2005. С. 119–131.
Берсерком считался особо свирепый воин, способный на время впадать в боевой экстаз, неконтролируемую звериную ярость (сходную с ликантропией или амоком малайцев). Берсерки воевали без доспехов, раздевшись или облачившись в звериные шкуры, считалось, что они не чувствительны к боли, им не опасно железное оружие и огонь. Однако их можно убить камнями или деревянными дубинами, а после приступа ярости они становятся слабыми и заторможенными. Их специфические боевые способности вызывались психическими отклонениями или опьяняющими наркотическими напитками. Согласно этиологическому мифу, Берсерком звали внука легендарного полухтонического героя Стар-када, дравшегося без доспехов. Подтверждением исторической достоверности сообщений о берсерках являются известия древнерусских летописей о том, что новгородские воины в критических ситуациях сражались спешившись, разувшись и сбросив одежду. [47] Судя по именослову и генеалогическим реконструкциям, многие новгородские боярские роды восходили к знатным скандинавским семьям, а судя по археологическим данным, престижная, особенно воинская, культура Севера Руси формировалась под прямым воздействием викингских образцов.
Отряды берсерков сопровождали многих конунгов: легендарного шведского конунга Адильса, полулегендарного датского конунга Хрольва Жердинку и вполне исторического норвежского правителя Харальда Прекрасноволосого. Берсерков часто считают специфическим скандинавским феноменом, однако это явное недоразумение, греческие герои эпоса и раннелитературной традиции не менее подвержены боевому бешенству, экстатическим припадкам безумия (люсса, лютта). В безумие впадают Лик (Волк) — антагонист Геракла, сам Геракл, Орест, Ахилл, Аякс Теламонид. [48] Фрейденберг О.М. Миф и литература в древности. М., 1998. С. 388–391,369,396–400, 423; Косарев В.А. Гнев Геракла // Классическая филология на современном этапе. Сб. научных трудов. М., 1996. С. 92–100.
Однако героическое сознание, героическая культура и идеалы воина строились на не столь экзотических образцах — центральной фигурой эпоса всегда являлся Герой, готовый с увлечением и удалью воевать в «здравом уме».
3. Феноменология героя
Эпическим персонажам, совершавшим подвиги, посвящено огромное число исследований, даже перечень сравнительно-исторических работ о структуре и чертах героической личности достаточно велик. [49] См. минимальную выборку наиболее доступных изданий: Боура М.С. Героическая поэзия. М., 2002; Жирмунский В.М. Эпическое творчество славянских народов и проблемы сравнительного изучения эпоса // Доклад на IV Международном съезде славистов. М., 1958. Отд. оттиск.; КлейнЛ.С. Бесплотные герои: происхождение образов «Илиады». СПб., 1994; Колесое В.В. Древнерусский богатырь // Средневековая и новая Россия. Сб. статей к 60-летию И.Я. Фроянова. СПб., 1996. С. 37–60; Липец Р. С. Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе. М., 1984; Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. Происхождение образа. М.; СПб., 2005; Пропп В.Я. Русский героический эпос. М., 1999; Халанский М. Южнославянские сказания о кралевиче Марке в связи с произведениями русского былевого эпоса. Варшава, 1894; Хойслер А. Германский героический эпос и сказание о нибелунгах. М., 1960.
Мы же сосредоточимся на чертах личности воителей, связанных не с мифологической архаикой (чудесное рождение, героическое детство, ускоренное взросление, низкий изначальный статус или долгое бездействие и т.д.) и не на идеализированных аспектах их характеров, а на реалистических моментах, отражающих специфику социальной психологии дружинников.
Начать беглый анализ героического «габитуса» лучше всего с меткого афоризма филолога Томаса А. Шиппи, который констатировал, что мы, современные люди, сгодились бы в древнем обществе «разве что в рабы». Именно «бесстрашие», воля к победе, готовность к смерти отличала воинов древности, давала им пропуск в мир власти и силы. «Среда войны» не просто отпечатывалась на личности, откликалась синдромами и неврозами, она давала строительный материал для нее. Недаром, Г.В.Ф. Гегель вывел простую, но исключительно верную формулу архаичной власти — человек, способный поставить на кон игры свою жизнь, становится Господином, боящийся рискнуть жизнью — Рабом. Именно согласно такой диалектике и строятся модели поведения воинов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: