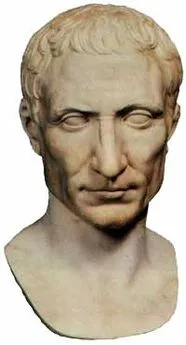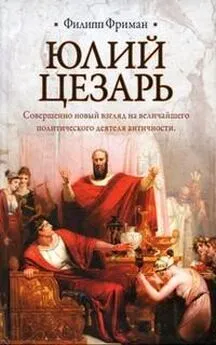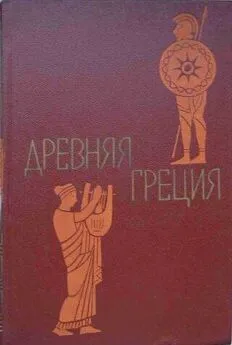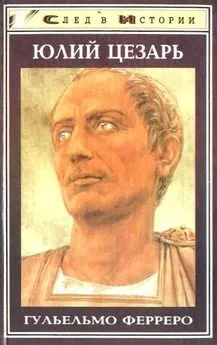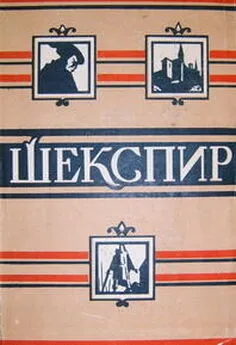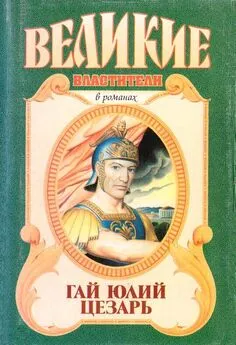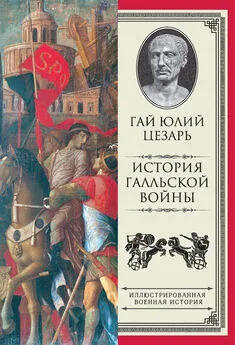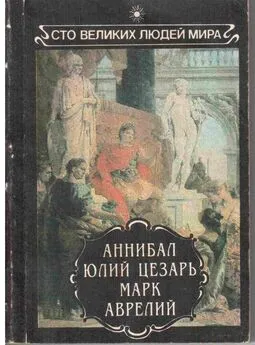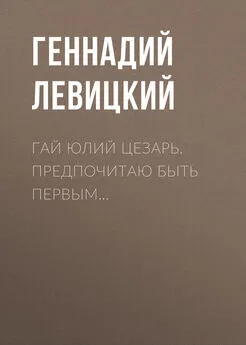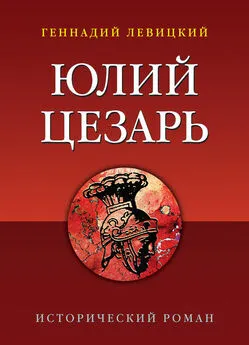Сергей Утченко - Юлий Цезарь
- Название:Юлий Цезарь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:1976
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Утченко - Юлий Цезарь краткое содержание
В монографии доктора исторических наук С. Л. Утченко — одного из крупнейших специалистов в области античной истории — рассказывается о выдающемся военном и политическом деятеле Древнего Рима Юлии Цезаре. Его жизнь и деятельность показаны в тесной связи с исторической обстановкой. В научном исследовании убедительно опровергаются характерные для буржуазной историографии попытки мифологизации личности Цезаря.
Юлий Цезарь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Давно замечено, что эту речь и солдатскую сходку, на которой она была произнесена. Цезарь приурочивал к событиям, предшествующим переходу через Рубикон, тогда как более поздняя традиция относит ее, как правило, к тому моменту, когда уже произошла в Аримине встреча Цезаря с бежавшими к нему трибунами. Высказывалось соображение, что Цезарь в данном случае допускает эту неточность совершенно сознательно, дабы создать впечатление, что он совершил переход через Рубикон с полного согласия своего войска.
Так это или не так, но бесспорно, что Цезарь, давая довольно подробное изложение своей речи, описывая все события последних решающих дней, ни одним словом не упоминает в «Записках» о знаменитом переходе через Рубикон. Зато все более поздние историки и биографы подробно останавливаются на этом эпизоде, сообщая различные красочные подробности. Так, известно, что Цезарь располагал к моменту своего выступления следующими силами: 5 тысяч пехотинцев (т. е. упомянутый 13–й легион) и 300 всадников. Однако, как и обычно, рассчитывая более на внезапность действий и храбрость воинов, чем на их численность, он, приказав вызвать остальные свои войска из — за Альп, тем не менее не стал ожидать их прибытия.
Небольшой отряд наиболее храбрых солдат и центурионов, вооруженных только кинжалами, он тайно направил в Аримин — первый крупный город Италии, лежащий на пути из Галлии, — с тем чтобы без шума и кровопролития захватить его внезапным нападением. Сам же Цезарь провел день на виду у всех, даже присутствовал при упражнениях гладиаторов. К вечеру он принял ванну, а затем ужинал вместе с гостями. Когда стемнело, то он, то ли жалуясь на недомогание, то ли просто попросив его обождать, покинул помещение и гостей. Взяв с собою немногих, самых близких друзей, он в наемной повозке выехал в Аримин, причем сначала намеренно (по другой версии — заблудившись) следовал не той дорогой и только на рассвете догнал высланные вперед когорты у реки Рубикон.
Эта небольшая и до той поры ничем не примечательная речка считалась, однако, границей между Цизальпинской Галлией и собственно Италией. Переход этой границы с войсками означал фактически начало гражданской войны. Поэтому все историки единодушно отмечают колебания Цезаря. Так, Плутарх говорит, что Цезарь понимал, началом каких бедствий будет переход и как оценит этот шаг потомство. Светоний уверяет, что Цезарь, обратившись к своим спутникам, сказал: «Еще не поздно вернуться, но стоит перейти этот мостик, и все будет решать оружие». Наконец, Аппиан приписывает Цезарю такие слова: «Если я воздержусь от перехода, друзья мои, это будет началом бедствий для меня, если же перейду — для всех людей».
Тем не менее, произнеся якобы историческую фразу «Жребий брошен». Цезарь все — таки перешел со своим штабом через Рубикон. Плутарх даже сообщает такую деталь: знаменитая фраза была сказана по — гречески. Кстати, если только она вообще была сказана, то это вполне правдоподобно, поскольку фраза не что иное, как цитата из Менандра, которого знал и даже любил Цезарь. Кроме того, Плутарх и Светоний упоминают о всяких чудесных знамениях, сопутствующих переходу и как будто оправдывающих этот роковой шаг.
Итак, гражданская война началась. Кто же, однако, ее начал, кто был ее инициатором: Помпей с сенатом или Цезарь? Дать однозначный ответ на такой вопрос, причем ответ не формальный, но по существу, отнюдь не просто. Пожалуй, стоит вспомнить уже приводившиеся слова Цицерона, что войны хотела и та и другая сторона, причем к этому справедливому высказыванию можно сделать следующее дополнение: не только хотела, но и начала войну, как это часто бывает, тоже и та и другая сторона. И хотя до сих пор речь шла то о Помпее, то о Цезаре, то о Катоне, на самом же деле вовсе уже не люди управляли событиями, а, наоборот, бурно нараставшие события управляли и распоряжались людьми.
Тем не менее есть, пожалуй, основание говорить о некотором различии позиций Помпея и Цезаря накануне гражданской войны. Обычно считают и из предшествующего изложения следует, что Помпей с 52 г., со своего третьего консульства, уже сознательно шел на определенное охлаждение, быть может, даже на разрыв отношений с Цезарем. Об этом свидетельствовали законы Помпея, принятые во время консульства, хотя сопровождавшие их оговорки как будто исключали стремление к прямой и открытой конфронтации. И действительно, на этой начальной стадии конфликта, стадии, еще не выходящей за пределы, по выражению Плутарха, «речей и законопроектов», т. е. за пределы обычной политической борьбы, Помпей предпочитал обходные пути и закулисные действия, часто прикрываясь, как щитом, авторитетом сената. Все его акции носили и не очень последовательный и вместе с тем не очень решительный характер.
Впервые реальная перспектива вооруженной борьбы четко вырисовалась перед Помпеем, видимо, тогда, когда после его выздоровления от болезни чуть ли не вея Италия изъявила ему свою любовь и преданность, когда офицеры, приведшие легионы от Цезаря из Галлии, дезинформировали его о взаимоотношениях между Цезарем и войском, когда он был уверен, что, только стоит ему «топнуть ногой», и в его распоряжении окажется вполне готовая к боям и победам армия. Тот же Плутарх считает, что все эти обстоятельства вскружили Помпею голову, и он, забыв свою обычную осторожность, действовал неосмотрительно, легкомысленно и излишне самоуверенно.
Плутарх, по всей вероятности, прав. Но прав лишь до известной степени. Едва ли можно объяснять позицию Помпея только одной причиной, т. е. «головокружением от успехов». В таком объяснении дает о себе знать неписаное правило: если победителей, как известно, не судят, то побежденных судят всегда и по большей части несправедливо. На все поступки и действия Помпея неизбежно ложится ретроспективный отсвет его конечного поражения. Бесспорно лишь то, что с момента возникновения реальной угрозы гражданской войны Помпей начинает действовать иначе — гораздо решительнее и более открыто. Вместо того чтобы прибегать к авторитету сената, он сам теперь оказывает на него давление: он смыкается с наиболее ярыми врагами Цезаря, проявляет неуступчивость при переговорах и, наконец, довольно прямо высказывается о неизбежности войны. Создается впечатление, что военные действия против Цезаря он на этом позднем этапе конфликта даже предпочитает политической борьбе.
Вполне возможно, что это не только впечатление. Помимо «головокружения» и самоуверенности речь должна идти, несомненно, о более глубоких внутренних причинах, толкавших Помпея к войне. Дело в том, что в какой — то определенный момент Помпей, по — видимому, совершенно ясно и бесповоротно понял, что в борьбе, которая ведется или будет вестись политическими средствами, его поражение неизбежно и ему никогда не одолеть своего соперника, но если встанет вопрос о борьбе вооруженной, то это в корне изменит ситуацию, здесь он в своей стихии, и потому итог подобного соревнования может оказаться совсем иным. Таким образом, для Помпея шансы на победу, на успех были связаны именно с войной, и, пожалуй, только с войной, тем более что в этом плане он на самом деле несколько переоценивал свои силы и возможности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: