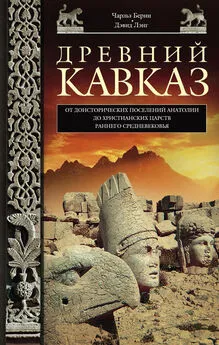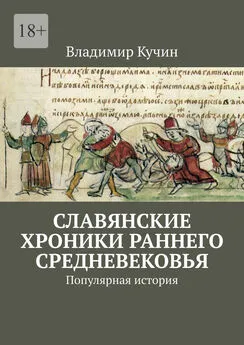Сергей Аверинцев - Символика раннего средневековья
- Название:Символика раннего средневековья
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Аверинцев - Символика раннего средневековья краткое содержание
Семиотика и художественное творчество. М.: Наука, 1977.
Символика раннего средневековья - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Взгляды раннего Средневековья на природу государства и власти парадоксальны и могут быть до конца поняты лишь в контексте парадокса христианской эсхатологии, раздваивающей мессианский финал истории на «первое» и «второе» пришествие Христа. Уже через первое пришествие человеческая история мыслится преодоленной («Я победил мир» [47] Evangelium secundum Ioannem, XVI, 33.
), снятой и разомкнутой на «эсхатон», принципиально вступившей в «последние времена» [48] Характерно, что даже во времена позднего Средневековья, когда от Рождества Христова насчитывали уже до полутора тысяч лет, упорно продолжали говорить в официальных документах Церкви о евангельских временах как о «последних временах». Они осмыслялись как «последние» не по эмпирии, а по смыслу - по эсхатологическому смыслу.
- однако лишь «невидимо», вне всякой наглядной очевидности; в эмпирии она продолжает длиться, хотя под сигнатурой конца и в ожидании конца. «ПарауЕ1 то охгра тот) кбоцог) тошои» [49] «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се, гряду скоро!» (Apocalypsis, XXII, 11-12).
, praeterit figura huius mundi, «преходит образ мира сего» [50] I epistola ad Corinthios, VII, 31.
- именно преходящий, выведенный из тождества себе мир людей осознается как «схима» и «схема», как иносказательная «фигура», как «образ», отличный от первообраза - как аллегория. Промежуток внутренне противоречивого уже-но-еще-не [51] Ср. Patrides С. A. The Phoenix and the Ladder//The rise and decline of the Christian view of history. Berkeley, 1964.
между тайным преодолением мира и явным концом мира, образовавшийся зазор между «невидимым» и «видимым» [52] «Видимое» и «невидимое» - фундаментальная оппозиция и дихотомия христианства (при помощи нее, например, описывается универсум в Никейско-Константинопольском символе веры: oporaov те navtcov Koti aopatcov. Именно эта дихотомия требует медиации символа или «образа»: «воистину, вещи зримые суть явленные образы вещей незримых» (Dionysii Areopagitae epist. X, PG t. Ill, 1117).
, между смыслом и фактом - вот идейная предпосылка для репрезентативно-символического представительства христианского автократора как государя «последних времен». Уже Тертуллиан, ненавидевший языческую Римскую империю, верил, что это последний устой человеческой истории, что конец Рима будет концом мира и освободит место для столкновения потусторонних сил. Тем охотнее усматривали в Римской империи заградительную стену против Антихриста и некое эсхатологическое «знамение», когда эта империя стала христианской. Оттон III (983-1002), полувизантиец на троне германских императоров «Римской» империи Запада, особенно серьезно считался с перспективой оказаться последним императором всех времен (в связи с концом первого тысячелетия христианской эры) - и потому в наибольшей степени ощущал себя christomimetes: «мимом», представителем, исполнителем роли Христа. Отсюда контрасты самопревозношения и самоуничижения: придворные художники окружали его церемониально-стилизованный, гиератический, доведенный почти до иероглифа образ атрибутами самого Христа [53] Ср. Beckwith J. Early medieval art. London, 1964. P. 106.
- и он же смиренным жестом слагал знаки власти у ног италийского аскета Нила, как актер, подчеркивающий различие между своей ролью и своей личностью.
Эстетика эмблемы - необходимое соединительное звено между философским умозрением и политической реальностью эпохи.
Идеология священной державы (то, что немцы называют Richstheologie) и христианская идеология были сцеплены этим звеном в единую систему обязательного мировоззрения: а между тем дело шло о двух различных идеологиях с различным генезисом и различной сутью, вовсе не утерявших своего различия даже на византийском Востоке, не говоря уже о латинском Западе [54] О генезисе характерного для Запада соотношения между имперской и христианской идеологией см. Frend W. С. Martyrdom and Perce- cution in the Early Church. Oxford, 1965.
. Они не могли «притереться» друг к другу без серьезных и продолжительных «трений» (официозное арианство в IV в., официозное монофелитство в VII в., официозное иконоборчество в VIII-IX вв. как ряд последовательных попыток преодолеть идею Церкви во имя идеи империи - и оппозиция Афанасия, Максима Исповедника, Феодора Студита как ряд последовательных попыток субординировать идею империи идее Церкви [55] Cp. Dempf A. Die Geistesgeschichte der altchristlichen Kultur. Stuttgart, 1964. S. 258-276.
).
Император Запада вел спор с папой за право быть единственным наместником власти Христа - и в конце концов проиграл этот спор. Даже император Востока вел спор с иконой за право быть единственным образом присутствия Христа - и тоже проиграл спор. Тяжба шла о праве быть держателем символа. Но и примирение имперской идеи с христианской идеей, их сопряжение в единую систему «правоверия» могло происходить всякий раз только при медиации платонически окрашенного символизма.
Христианство как таковое было для империи лишь знаком (еще раз: «In hoc signo vinces»).
Империя как таковая тоже была для христианства лишь знаком (еще раз: «изображение и надпись» на евангельском динарии кесаря - и обреченная прейти «схема» и «фигура» мира сего).
Описание христианских тем в образах имперской государственности или имперских тем в образах христианской теологии - общее место литературы раннего Средневековья (а также всего, что «литературно» в искусстве раннего Средневековья). Но это явление оказалось возможно не в последнюю очередь потому, что над литературой раннего Средневековья господствует фундаментальный поэтический принцип пара-болы и пара-фразы (что связано с фундаментальным мировоззренческим принципом пара-докса [56] To iiap&So^ov - одно из наиболее характерных слов в лексиконе ранневизантийской сакральной и мирской риторики. Миоттрю £evov брй icai napa5o^ov («таинство чуждое вижу и неимоверное») - это восклицание из Рождественского канона Косьмы Маюмского может служить примером вместо десятков и сотен ему подобных. Такова коренная структура христианского парадоксализма, увиденная через призму греческого риторического темперамента. Мир христианина наполнен исключительно «невероятными» и «недомыслимыми», «странными» н «неисповедимыми» вещами; но так же обстоит дело с миром ритора. Каким бы ни было различие в глубине, внешняя поза и словесная «жестикуляция» недоумевающего восторга обнаруживает неизбежное сходство. В одном из самых выдающихся памятников византийской церковной поэзии VI или VII в. (так называемый 'Ypvo^ 'Ак&Эюто^) говорится: «познать знание незнаемое» (yvcooiv yvcoaxov yvoSva^). Это одновременно очень ответственная формула христианского мировоззрения - и риторическая игра. Ср. доведенную до схемы характеристику христианской образности у английского поэта XX в.: And our peace is put in impossible things // Where clashed and thundered unthinkable wings // Round an incredible star».
, хотя в силу специфики эстетических форм сознания не может быть с ним отождествлено). Парабола - по буквальному значению возле-брошенное-слово: слово, не устремленное к своему предмету, но блуждающее и витающее возле него; не называющее вещь, а скорее загадывающее эту вещь (ср. утверждение новозаветного текста, что до окончания этого «зона» мы видим всё только «через зерцало в загадке» - 5i еоолтрои ev аМуцатг [57] I epistola ad Corinthios, XIII, 12.
.
Интервал:
Закладка: