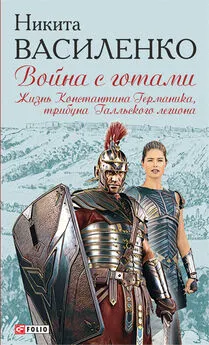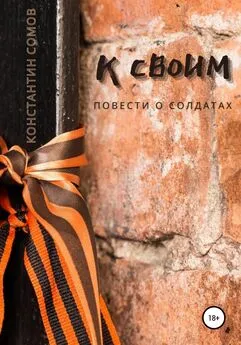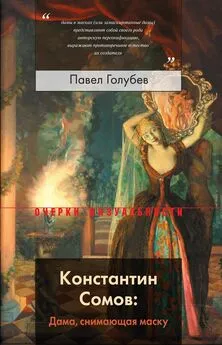Константин Сомов - Война: ускоренная жизнь
- Название:Война: ускоренная жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2010
- Город:Барнаул
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Сомов - Война: ускоренная жизнь краткое содержание
Книга эта начиналась тридцать лет назад, когда мальчишка Костя Сомов услышал на рыбалке от старика историю о том, как жили на войне. Не воевали — жили. Это в кино на войне всегда стреляют. На самом деле боевые действия занимают на войне не так уж много времени. В своей книге Константин Сомов приводит слова нашего земляка, бийчанина Героя Советского Союза Сергея Баканова: «После войны подсчитал: наступал, то есть по-настоящему воевал, восемьдесят восемь суток, в госпиталях валялся, то есть бездельничал — 315 суток, в обороне был 256 суток, учился на командира под Сталинградом 50 суток. И до того, как попал на фронт, околачивался во Владивостоке — 350». Хотя все это тоже была война, но в каждом из этих состояний она была разная. Про это и книжка.
В книге 600 страниц. Сравнительно немного, а вышла целая энциклопедия. Но не холодная и безжизненная, какими обычно бывают энциклопедии, а трогательная и человечная. Всех жаль — и русских, и немцев, и обобранных командиром Попеску качающихся от недоедания румын.
Константин Сомов упоминает сотни разных людей, и о каждом хочется узнать — дожил ли он до Победы? Прочитал, например, про то, как попавшие в окружение бойцы 364-й дивизии стащили у комдива Филиппа Соловьева жеребца — последнюю уцелевшую лошадь. Комдив не стал искать виноватых, подосадовал лишь: «Думаете, мне есть не хочется? Жалко было дураку… Надо было съесть»… Долго искал в разных книжках, выяснил — выжил Филипп Соловьев после окружения и даже командовал потом корпусом.
О многом из того, что написано Сомовым, до него так подробно не писал никто — например, кому, за что и сколько на войне платили денег. Оказывается, еще в августе 1941 года приказом Верховного главнокомандующего для летчиков была введена денежная награда за каждый сбитый немецкий самолет — тысяча рублей. (Логика есть: войну ведь называют работой, а за работу надо платить).
В большинстве же книг, написанных в последние годы, именно заряд любви и сострадания просто не предусмотрен. Авторы придумывают детективный сюжет, помещают в военный антураж любовный, авантюристический или шпионский роман. Возможно, они полагают, что правда о войне — слишком горькая таблетка, надо подсластить или чем-то отвлечь внимание читателя. А скорее всего — так проще: не надо ходить по архивам, не надо слушать стариков. Да их ведь еще найти надо — ветеранов. Вместо этого одни авторы своими книжками воюют с другими: напишет кто-то про Великую Отечественную войну одну книжку, а ему в ответ — десять. А годы идут, и тех, кто помнит войну, остается все меньше. Очень скоро о Великой Отечественной не останется у нас ничего, кроме памяти, заключенной в книжные переплеты. Война становится далекой, перестает быть страшной, а если она не страшна, то чего бы не повоевать вновь? И от того, какими будут книги о войне, зависит, каким будет наше будущее и будущее наших детей…
Война: ускоренная жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Баланда с примесью «петушка» отличалась едким привкусом, хотя в хлебе этот привкус не сразу можно было ощутить.
Костная мука, через хлеб или баланду введенная в организм человека, в желудке не переваривалась, поступая в кишки, осаждалась там. В конечном итоге после двух-трехнедельного употребления «петушка» в кишках у человека образовывался камень, и человек неизбежно погибал, спасти его не представлялось возможным».
Самой большой заботой хозяев лагерей и их прихвостней лагерных полицаев, которые, само собой, питались куда лучше своих соотечественников, было чтобы кто-либо из военнопленных не ухитрился получить лишнюю пайку баланды или того хуже — хлеба. Дабы это предотвратить и соблюсти «порядок», гитлеровцы изобретали исключающие потери способы раздачи пищи. Один из них в своей книге «Дневник немецкого солдата» описывает Пауль Кернер-Шредер (1941 год. Лагерь советских военнопленных в Молодечино):
«Раз в сутки пленным выдают на семь человек по буханке хлеба и по две консервные банки с водой. Именных списков не существует, да, пожалуй, и невозможно вызывать всех по одному — в лагере их двадцать шесть тысяч. Вот кто-то и придумал такую систему раздачи пищи.
Семь человек выстраиваются в ряд, берут друг друга под руку и, скрестив на груди руки, образуют неразрывную цепь. На флангах этой цепи две свободные руки держат по консервной банке. Такая цепь втискивается в проход между двумя барьерами, затем боком — во второй канал. Семерка делает три шага вперед, словно танцуя полонез, и протискивается сквозь следующую преграду. Наконец добирается до места, где на куче хлебных буханок стоит шпис. Справа и слева от него двое солдат держат по канистре и по жестяной кружке на длинной палке.
Перед шписом и солдатами цепь выравнивается, пленный, стоящий в середине цепи, подходит к шпису, раздающему хлеб, крайние — к солдатам, раздающим воду. Шпис сует среднему буханку в руки, скрещенные на груди, а на флангах солдаты наливают в консервные банки воду. После этого цепь продвигается дальше, словно заведенный механизм, уступая место следующей семерке. Получают еду, собственно, только трое, остальные четверо являются как бы свидетелями».
Впрочем, если не в общем лагере, то в его лазарете пленные все же находили способ обманывать бдительных хранителей чужого добра. И способ, мягко сказать, впечатляющий:
«Санитары расталкивают спящих, дергая их за ноги, и вытаскивают умерших за ночь. Однако соседи стараются не отдавать мертвых, ухитряются даже их сажать, нахлобучивая пилотки и обматывая шеи портянками, чтобы не заваливалась голова. Делается это для получения на них пайка, — вспоминал попавший в плен под Ленинградом ополченец Борис Соколов (Саласпилс. Латвия.1941 г.). — Держат до тех пор, пока смрад не становится чрезмерным. Тогда или сами сбрасывают их в проход, или бдительные санитары, отчаянно матерясь и богохульствуя, вытаскивают бренные останки за ноги и с грохотом волокут по полу к дверям.
После обхода все в ожидании завтрака опять лезут на нары. Двое санитаров несут корзину с нарезанными небольшими кусочками хлеба, а третий бросает этот кусочек на каждую пару обутых или босых ног. Следующие два санитара тащат бачок с теплой, слегка подслащенной водицей зеленоватого цвета, которую небольшим черпаком разливают в протягиваемые котелки. Иногда возникают какие-то недоразумения или просьбы о добавках, в ответ на которые санитары разражаются неистовой руганью».
«Дорогая моя семья, Мотя, Катя и Маруська!
Как я хотел с вами еще раз повидаться, но это не удалось, нам больше не видаться, — написал 19 октября 1941 года (в надежде, что кто-нибудь найдет его письмо и отправит родным) из лагеря города Каунас советский военнопленный Ф.Е. Кожедуб. — 14 сентября попал в плен к немцам возле Новгорода-Северска в селе Роговка. С самого ухода из дома я голодал и доживаю последние дни. Живу под открытым небом в яме, или в пещере, или в подвале. Пищу получаем в день 200 г хлеба, пол-литра вареной капусты и пол-литра чаю с мятой. Все несоленое, чтоб не пухли. На работу гонят палками и проволочными нагайками, пищу не добавляют.
Много людей я просил о спасении, обещал все свое имущество, но спасения нет.
Прощайте».Краеведу Евгению Платунову удалось установить имена 14 наших земляков, уроженцев Алтайского края, погибших в лагере, где содержался красноармеец Кожедуб. Среди них бывший житель Барнаула (ул. Малотобольская, 7) Алексей Белоглазов, Иосиф Богатыренко из Кулундинского района, Гавриил Зямин из Красногорского, Алексей Колногузенко из Зудилово, Никита Мальцев из Бийска.
Люди и нелюди
Тяжелейшая обстановка, постоянное голодное существование и такая же постоянная возможность быть убитым без всякой на то причины в лагерях военнопленных быстро отделяли «зерна» от «плевел», определяя, кто в действительности чего стоит. Высочайшие проявление человеческого духа перемешивались здесь с беспредельно-подлыми поступками, и вместе они составляли по существу всю жизнь лагеря, главным стимулом в которой была еда.
Попавший в августе 1941 года из окружения в Уман-ский лагерь военнопленных командиров Красной армии поэт Евгений Долматовский написал позже в своей книге «Былое»:
«Мы все оставались голодными, однако те, кто не мог встать, не были обделены своей порцией. Всеми правдами и неправдами их соседи по месту на земле добывали баланду и для них. Труднее было с хлебом. За время моего заточения в Умани хлеб давали лишь несколько раз. Это был стандартный хлеб, которым снабжался вермахт: прямоугольные булки в вощеной упаковке. Нам доставался этот хлеб в уже заплесневелом, разгерметизированном виде. Если не удавалось достать пайку хлеба для товарищей, разламывали пополам свою.
Но один командир, лежавший на твердой и горячей земле, не брал в рот ни крошки. Это был интендант первого ранга — кажется, фамилия его была Зингер. Длинный (я не могу сказать высокий — я не видел его стоящим на ногах), костлявый человек лет сорока, начальник одного из отделов армейского штаба, кадровый офицер.
В сороковые годы мы как-то не замечали национальности советских людей, и мне даже показалось странным, когда кто-то сказал, что Зингер — обрусевший немец из Ленинграда.
Но Зингер помнил о том, что он немец.
Когда товарищи приносили ему еду или воду, он тихо, но твердо отказывался. Он слабел с каждым днем и как бы срастался с землей, на которой лежал.
— Никто не заметит вашей голодовки, — говорили ему товарищи. — Это даже не бунт на коленках, это бунт лежа.
— Видите ли, — отвечал Зингер, поправляя чудом сохранившееся старомодное пенсне, — я немец, и когда они узнают об этом, чего доброго, еще воспользуются моим именем для какой-нибудь поганой листовки. Единственный способ самоубийства — пусть с опозданием, но наверняка, — это ничего не есть, не прикасаться к воде.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

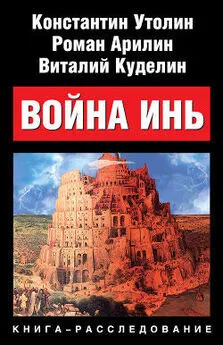
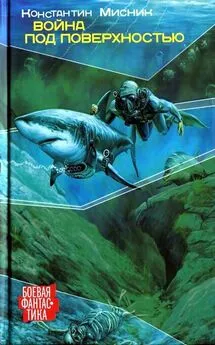
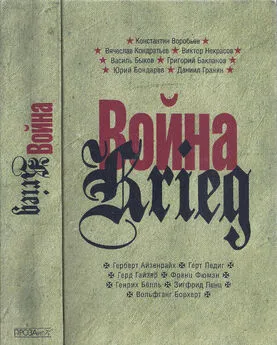

![Константин Назимов - Война с Альянсом [СИ]](/books/1059865/konstantin-nazimov-vojna-s-alyansom-si.webp)
![Константин Назимов - Война с Альянсом [litres]](/books/1150116/konstantin-nazimov-vojna-s-alyansom-litres.webp)