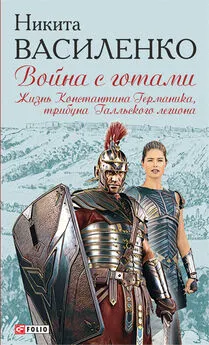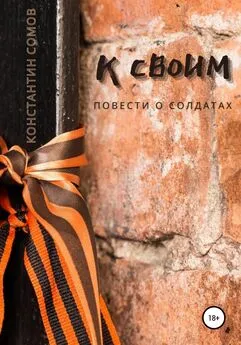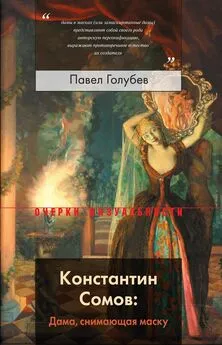Константин Сомов - Война: ускоренная жизнь
- Название:Война: ускоренная жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2010
- Город:Барнаул
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Сомов - Война: ускоренная жизнь краткое содержание
Книга эта начиналась тридцать лет назад, когда мальчишка Костя Сомов услышал на рыбалке от старика историю о том, как жили на войне. Не воевали — жили. Это в кино на войне всегда стреляют. На самом деле боевые действия занимают на войне не так уж много времени. В своей книге Константин Сомов приводит слова нашего земляка, бийчанина Героя Советского Союза Сергея Баканова: «После войны подсчитал: наступал, то есть по-настоящему воевал, восемьдесят восемь суток, в госпиталях валялся, то есть бездельничал — 315 суток, в обороне был 256 суток, учился на командира под Сталинградом 50 суток. И до того, как попал на фронт, околачивался во Владивостоке — 350». Хотя все это тоже была война, но в каждом из этих состояний она была разная. Про это и книжка.
В книге 600 страниц. Сравнительно немного, а вышла целая энциклопедия. Но не холодная и безжизненная, какими обычно бывают энциклопедии, а трогательная и человечная. Всех жаль — и русских, и немцев, и обобранных командиром Попеску качающихся от недоедания румын.
Константин Сомов упоминает сотни разных людей, и о каждом хочется узнать — дожил ли он до Победы? Прочитал, например, про то, как попавшие в окружение бойцы 364-й дивизии стащили у комдива Филиппа Соловьева жеребца — последнюю уцелевшую лошадь. Комдив не стал искать виноватых, подосадовал лишь: «Думаете, мне есть не хочется? Жалко было дураку… Надо было съесть»… Долго искал в разных книжках, выяснил — выжил Филипп Соловьев после окружения и даже командовал потом корпусом.
О многом из того, что написано Сомовым, до него так подробно не писал никто — например, кому, за что и сколько на войне платили денег. Оказывается, еще в августе 1941 года приказом Верховного главнокомандующего для летчиков была введена денежная награда за каждый сбитый немецкий самолет — тысяча рублей. (Логика есть: войну ведь называют работой, а за работу надо платить).
В большинстве же книг, написанных в последние годы, именно заряд любви и сострадания просто не предусмотрен. Авторы придумывают детективный сюжет, помещают в военный антураж любовный, авантюристический или шпионский роман. Возможно, они полагают, что правда о войне — слишком горькая таблетка, надо подсластить или чем-то отвлечь внимание читателя. А скорее всего — так проще: не надо ходить по архивам, не надо слушать стариков. Да их ведь еще найти надо — ветеранов. Вместо этого одни авторы своими книжками воюют с другими: напишет кто-то про Великую Отечественную войну одну книжку, а ему в ответ — десять. А годы идут, и тех, кто помнит войну, остается все меньше. Очень скоро о Великой Отечественной не останется у нас ничего, кроме памяти, заключенной в книжные переплеты. Война становится далекой, перестает быть страшной, а если она не страшна, то чего бы не повоевать вновь? И от того, какими будут книги о войне, зависит, каким будет наше будущее и будущее наших детей…
Война: ускоренная жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Цены на табак в тылу повсеместно были попросту фантастическими, особенно в Ленинграде, где в условиях блокады приходилось заменять его разнообразными эрзацами. На пивоваренных заводах Питера нашли 27 тонн хмеля, который полностью использовали как добавку (10–12 %) к табаку, а когда хмель закончился, стали примешивать сухие опавшие листья осины, березы, дуба, клена и других деревьев. Причем кленовые листья оказались наиболее подходящими. Их сбором активно занялись работницы табачных фабрик и школьники. Причем масштабы сбора впечатляли — до нескольких десятков тонн. Листья просушивали на ветру, упаковывали в мешки и после технологической обработки добавляли (до 20 %) к табаку. Использовались и «внутренние ресурсы» табачных фабрик. За десятилетия работы под полами цехов скопилось немало табачной пыли. Ее выгребали и тоже добавляли в курево в качестве никотиновой «приправы».
К февралю 1942 года восьмушка махорки на рынке блокадного города стоила 200 рублей вместо 40 копеек, как до войны, или приравнивалась к 500–600 граммам хлеба (!). А папиросы «Звезда», стоившие до войны рубль за коробку, продавались по 5 рублей за штуку, и цена на них росла.
«За 100 граммов табаку спекулянты дерут в Ленинграде два фунта хлеба», — возмущенно писал в своем военном дневнике журналист Павел Лукницкий.
«Драли» за табак тогда и на другой стороне, а именно на оккупированной фашистами территории. В находящейся под немцами Белоруссии при зарплате большинства рабочих в 200–400 рублей (высококвалифицированных — 800 рублей) 50-граммовая пачка табака стоила на черном рынке 150 целковых. Столько же, сколько четыре-пять литров молока или десяток яиц.
Дым над окопами
На передовой и вообще в частях действующей армии дело с куревом обычно обстояло получше.
«Получим на базе табак, папиросы, кремни — все, без чего бойцу не обойтись на передовой, — и в путь, — вспоминала спустя годы после войны рядовая-снабженец Елена Иневская. — Где на машинах, где на повозках, а чаще с одним или двумя солдатами. На своем горбу тянем. До траншеи на лошадях не проедешь, немцы услышат скрип. Все на себе».
А в тех самых траншеях Елену и ее коллег не просто ждали с нетерпением, на них, можно сказать, молились, поскольку табак (как и спиртное) позволял хоть как-то снять страшное нервное напряжение, постоянно испытываемое каждым, кому пришлось подолгу находиться на переднем крае.
«Курить научился в армии, — пишет в книге «Дважды младший лейтенант» офицер-артиллерист Дмитрий Небольсин. — Курил безбожно: много и часто. Говорят, курить вредно. Возможно. С этим я согласен. Но в ту фронтовую пору перекур имел особое значение. Перекурил — на душе полегчало, будто в каждую клетку твоего тела вдохнули эликсир, без которого немыслимо снять напряжение, усталость и успокоиться. После обеда надо закурить, иначе обед покажется неполным, незавершенным. Да и привал без перекура не привал. Курить очень хотелось. Когда не было папирос или махорки, искали в карманах табачную пыль, подбирали заплеванные окурки-охнарики. А случалась, курили сухие листья растений и даже сухой конский помет, надрывались в кашле и все-таки курили».
О любви Дмитрия Небольсина к куреву — так же, как и миллионов его товарищей-фронтовиков, можно судить по вырезке из фронтовой газеты, где было напечатано его стихотворение «Папироска»:
По землянке бежит говорок,
По окну текут капельки-слезы.
Поднимается сизый дымок
С неразлучной моей папиросы.
Под огнем приходилось лежать
Мне в полях заснеженных московских
И о чем-то далеком мечтать
Под лиловый дымок папироски.
Ароматный дымок я глотал
Под знакомые грозные звуки
И дымок тонкой струйкой пускал
В посиневше-иззябшие руки.
Материнскую ласку и дом
Вспоминал я под бурею грозной,
И надежда жила огоньком
Неразлучной моей папиросы.
И опять я в землянке лежу.
По окну текут капельки — слезы,
На дымок сизоватый гляжу,
Вспоминая прошедшие грозы.
По тому, кто что курит, можно было судить о многом — о воинском звании, принадлежности к тому или иному роду войск, личных связях. По запаху табачного дыма становилось понятно даже, как обстоят дела на фронтах. Если над солдатскими окопами пахло моршанской махоркой, а из офицерских блиндажей тянуло дымком «Казбека» и «Беломора» — это было признаком благополучия. А если вместо этого поднимался дым «филичевого», изготовленного из отходов производства, обрезков и соцветий табака или еще какого эрзаца, значит, дела были по-настоящему плохи.
«Хуже всего без курева приходилось. Я сам как-то купил у солдата махорки на одну закрутку за сто рублей и счастлив был безмерно. До сих пор курю и папиросу вниз дымком держу — с войны привычка, — вспоминал побывавший в страшном окружении в Мясном Бору бывший командир взвода И. Елховский. — Немец все листовками забрасывал, сулил безбедную жизнь в плену. Но вот что интересно: как ни бедовали, никто из ребят и не помышлял о плене. Все до одного верили, что непременно выйдем из кольца. А листовки брали на самокрутки: бумаги-то не было, газеты к нам редко попадали. Весной и махорку не доставляли. Курили мох да прошлогодние листья».
Среднему и высшему начсоставу действующей армии (кроме летного и технического, получавшего летный паек) согласно приказу народного комиссара обороны полагалось дополнительно 25 штук папирос или 25 г табака в день и 10 коробок спичек в месяц.
Со спичками и курительной бумагой у бойцов и младших командиров частенько бывало плоховато. В качестве газетных полосок для самокруток, по мнению специалистов, больше всего подходила бумага газеты «Красная звезда». Она была тоньше и курилась вроде бы получше, чем «Правда» или «Известия». Применялась для «цыбарок» и «козьих ножек» сероватая, неважная по качеству бумага разбрасываемых с самолетов немецких листовок, что уж точно могло обернуться очень недешево для здоровья, а то и жизни в целом, поскольку могло закончиться штрафбатом, а то и расстрелом.
Бывали случаи, когда под расстрел попадали и из-за самого табака. Об одном из таких вспоминал Иван Новохацкий:
«Помню, выдали ароматный табак «Южный». Я не курил и отдавал его другим. Этот табак сыграл злую шутку. Пачки табака были похожи на пачки чая. Повар у кого-то спросил одну или две пачки чая и положил их в блиндаже на полку, где хранился чай. Рано утром в один из дней, заваривая чай, он вместо чая бросил в котел пачку табака. Мы пили чай молча, потом кто-то сказал, что чай горький. Все зашумели, собрались возле котла. Повар, чуя неладное, длинным черпаком поддел со дна заварку. Она распарилась и напоминала кучу травы. Стало ясно, что это табак. Поругавшись и посмеявшись, разошлись. К вечеру узнали, что повара арестовала военная контрразведка Смерш. Ему приписали попытку отравить офицеров. Нелепый случай, но судьба этого невинного человека была решена».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

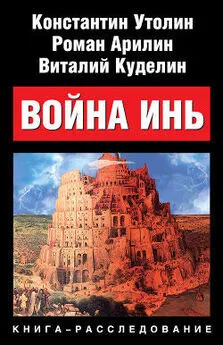
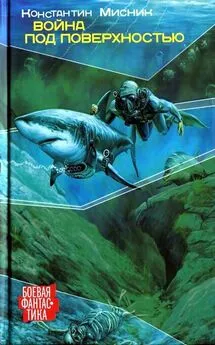
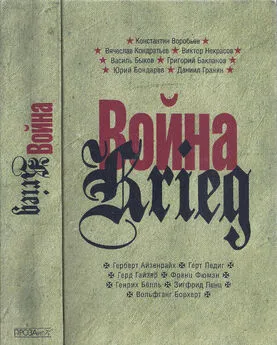

![Константин Назимов - Война с Альянсом [СИ]](/books/1059865/konstantin-nazimov-vojna-s-alyansom-si.webp)
![Константин Назимов - Война с Альянсом [litres]](/books/1150116/konstantin-nazimov-vojna-s-alyansom-litres.webp)