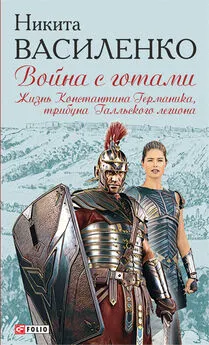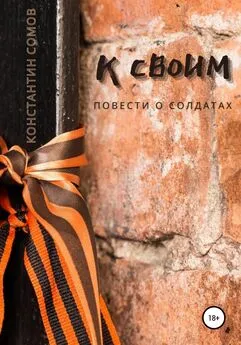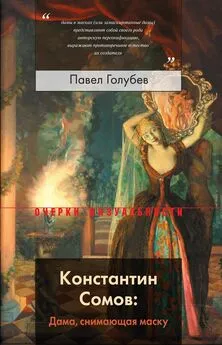Константин Сомов - Война: ускоренная жизнь
- Название:Война: ускоренная жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2010
- Город:Барнаул
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Сомов - Война: ускоренная жизнь краткое содержание
Книга эта начиналась тридцать лет назад, когда мальчишка Костя Сомов услышал на рыбалке от старика историю о том, как жили на войне. Не воевали — жили. Это в кино на войне всегда стреляют. На самом деле боевые действия занимают на войне не так уж много времени. В своей книге Константин Сомов приводит слова нашего земляка, бийчанина Героя Советского Союза Сергея Баканова: «После войны подсчитал: наступал, то есть по-настоящему воевал, восемьдесят восемь суток, в госпиталях валялся, то есть бездельничал — 315 суток, в обороне был 256 суток, учился на командира под Сталинградом 50 суток. И до того, как попал на фронт, околачивался во Владивостоке — 350». Хотя все это тоже была война, но в каждом из этих состояний она была разная. Про это и книжка.
В книге 600 страниц. Сравнительно немного, а вышла целая энциклопедия. Но не холодная и безжизненная, какими обычно бывают энциклопедии, а трогательная и человечная. Всех жаль — и русских, и немцев, и обобранных командиром Попеску качающихся от недоедания румын.
Константин Сомов упоминает сотни разных людей, и о каждом хочется узнать — дожил ли он до Победы? Прочитал, например, про то, как попавшие в окружение бойцы 364-й дивизии стащили у комдива Филиппа Соловьева жеребца — последнюю уцелевшую лошадь. Комдив не стал искать виноватых, подосадовал лишь: «Думаете, мне есть не хочется? Жалко было дураку… Надо было съесть»… Долго искал в разных книжках, выяснил — выжил Филипп Соловьев после окружения и даже командовал потом корпусом.
О многом из того, что написано Сомовым, до него так подробно не писал никто — например, кому, за что и сколько на войне платили денег. Оказывается, еще в августе 1941 года приказом Верховного главнокомандующего для летчиков была введена денежная награда за каждый сбитый немецкий самолет — тысяча рублей. (Логика есть: войну ведь называют работой, а за работу надо платить).
В большинстве же книг, написанных в последние годы, именно заряд любви и сострадания просто не предусмотрен. Авторы придумывают детективный сюжет, помещают в военный антураж любовный, авантюристический или шпионский роман. Возможно, они полагают, что правда о войне — слишком горькая таблетка, надо подсластить или чем-то отвлечь внимание читателя. А скорее всего — так проще: не надо ходить по архивам, не надо слушать стариков. Да их ведь еще найти надо — ветеранов. Вместо этого одни авторы своими книжками воюют с другими: напишет кто-то про Великую Отечественную войну одну книжку, а ему в ответ — десять. А годы идут, и тех, кто помнит войну, остается все меньше. Очень скоро о Великой Отечественной не останется у нас ничего, кроме памяти, заключенной в книжные переплеты. Война становится далекой, перестает быть страшной, а если она не страшна, то чего бы не повоевать вновь? И от того, какими будут книги о войне, зависит, каким будет наше будущее и будущее наших детей…
Война: ускоренная жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В торжественной обстановке, снеобычайнымподъе-мом, на высоком идейно-политическом уровне и только добровольных началах прошла подписка на заем.
В коротких, но ярких речах воины выражали свою беспредельную любовь к Родине, беззаветную преданность партии Ленина-Сталина.
Сержант Казаков: «Новый государственный военный заем — это новый удар по врагу, новый вклад в дело нашей Победы».
Красноармеец Дубягин: «Мой вклад в фонд нашего государства ускорит восстановление промышленности и сельского хозяйства в освобожденных районах Украины, Белоруссии и других республиках».
Однако наряду с этим имели место единичные отрицательные явления.
Старший лейтенант м/с Толстякова в разговоре среди офицеров санроты сказала: «На двухмесячный оклад пусть подписываются агитаторы, а я не буду». Оперуполномоченный старший лейтенант Гусев в беседе с заместителем командира полка по политчасти заявил: «Нечего меня учить, как подписываться. Я подхожу из своего расчета, а брать со сберкнижки и вносить их наличными я не намерен».
Командующий артиллерией дивизии полковник Прохоров сказал: «Не успели кончить войну, а опять уже новый заем. Я на заемы подписываюсь с 1929 года, а от государства еще ничего не получил». При денежном содержании 2400 рублей в месяц Прохоров подписался на заем всего на 900 рублей.
Политаппарат своевременно реагирует на неправильные высказывания».
А было и так, как в истории двух белорусов Нила Цыбина и Алексея Ходосько.
Незадолго до войны оба завербовались работать на Север, оставив свои семьи дома, в Белоруссии. О том, что было дальше, Электрону Приклонскому рассказал сам Цыбин, командир тяжелого самоходного орудия ИСУ-152, механиком-водителем которого был Приклонский.
«Оба друга начиная с июля 1941 года безуспешно обращались в свой военкомат с просьбой направить их на фронт, но на специалистов (Цыбин — топограф, а Ходосько — техник-дорожник) в тех широтах наложена броня, и они каждый раз получали категорический отказ. Нетрудно себе представить их тогдашнее душевное состояние. После почти двухлетних бесплодных попыток друзья, которых еще более сблизило общее несчастье, решили с отчаяния сдать в фонд обороны 30 тысяч рублей — все свои деньги, заработанные за несколько лет, и одновременно обратились к Сталину за разрешением отправиться воевать против фашистов на собственном танке. Их примеру тотчас последовали еще одиннадцать человек.
Ответ из Москвы пришел скоро, и положительный. Каждому из колымчан от имени Сталина прислана была телеграмма (Ходосько и Цыбину — общая), в которой выражалась благодарность от имени Красной армии и всего советского народа и сообщалось о том, что просьба патриотов удовлетворена и они будут направлены в танковое училище. Нил дал мне почитать хранившийся у него в бумажнике исторический документ — заветную телеграмму за подписью самого Верховного главнокомандующего.
Начальство Колымпроекта, рыча от досады, вынуждено было расстаться с ценными специалистами, которых заполучить в военное время — дело почти невозможное. Мудро предвидя подъем патриотической волны на Колыме, руководство послало в столицу срочную депешу. В той «челобитной» содержалась слезная жалоба на бегущих на фронт работников и просьба остановить этот поток. Начальство забило тревогу вовремя: еще добрых три десятка магаданцев сдали государству свои сбережения ради того, чтобы разбронироваться, и уже собрали свои походные чемоданы, но в ответ получили только, увы, благодарность.
Но первые тринадцать (хотя и «чертова дюжина») работников Крайнего Севера осенью 1943 года очутились в ЧТТУ (Челябинское танково-тракторное училище), где составили маленький отдельный взвод, на редкость сплоченный, занимавшийся не за страх, а за совесть. Их выпустили в мае 1944 года (как раз перед началом освобождения Белоруссии от фашистов. — Авт.), и они, все тринадцать, были направлены по их просьбе в один полк».
Две марки в день и марка в месяц
13 апреля 1931 года подданный охваченной кризисом Веймарской республики Бруно Винцер в возрасте 19 лет вступил в рейхсвер — маленькую стотысячную армию догитлеровской Германии. Вступил, заключив контракт на 12 лет:
«Мы получали в месяц на руки пятьдесят марок на всем готовом и при бесплатном жилище. Это были большие деньги. Кружка пива стоила пятнадцать, а стакан шнапса — двадцать пфеннигов. Пособие, которое получал безработный на себя и на свою семью, не составляло и половины нашего жалованья. Если же безработного снимали с пособия, он получал по социальному обеспечению сумму, которой не хватало даже на стрижку волос».
Через 10 лет после этого, когда рейхсвер уже заменил вермахт, насчитывающий не сотню тысяч, а несколько миллионов солдат и офицеров, зарплата рядового немецкого солдата была немногим больше, чем в 1931 году. Однако для многих солдат — особенно молодых — она уже давно не являлась главным фактором их пребывания в победоносной армии рейха.
В отличие от нынешних толерантных времен и их войск, на Второй мировой доставалось всем, и если в Красной армии сражались и порой гибли сыновья высших советских руководителей (Сталина, Хрущева, Микояна и других), то, как вспоминал писатель Константин Симонов, по документам, найденным у убитых немецких солдат, можно было определить, что часть из них является сыновьями владельцев больших предприятий, крупных торговцев, банкиров и т. д. А ведь при любой, пусть и самой тоталитарной системе, роль денег остается неизменной, и нет сомнений, что отцам этих солдат не составляло бы большого труда «отмазать» своих детей от фронта. Другое дело, что те бы на это никогда не согласились. Их ждала война, в которой обе стороны поставили на карту все. И тем не менее для малообеспеченных, не имеющих своего дела или хорошей профессии молодых немцев, военная служба продолжала служить источником существования.
«Получив лейтенантское звание, я стал в определенной степени «взрослым», — вспоминает Армин Шейдербауер о важном в его жизни событии, произошедшем в декабре 1942 года. — Мне не было еще и девятнадцати лет, и я бы еще долго оставался подростком, хотя и был уже унтер-офицером. Но теперь я мог содержать себя сам и должен был получать жалованье со своего собственного счета в сберегательном банке Штокерау. В то время денежный оклад лейтенанта составлял 220 рейхсмарок в месяц. Это была значительная сумма не только для вчерашнего гимназиста, но и для солдата, который должен был жить только на свой служебный оклад и фронтовую надбавку. Во всяком случае бесплатное жилье было гарантировано. Можно было иметь казарменную крышу над головой и армейский паек, который был более или менее достаточным и приемлемым для молодого желудка.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

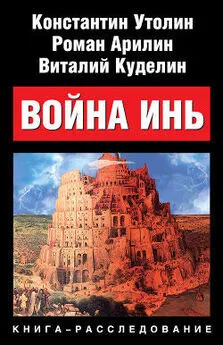
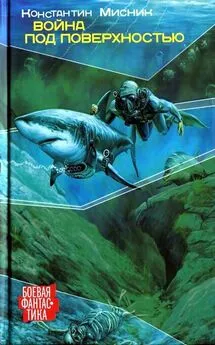
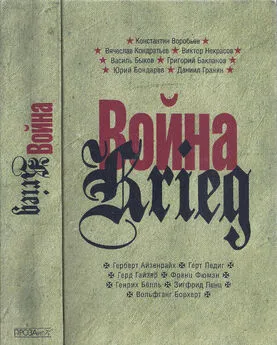

![Константин Назимов - Война с Альянсом [СИ]](/books/1059865/konstantin-nazimov-vojna-s-alyansom-si.webp)
![Константин Назимов - Война с Альянсом [litres]](/books/1150116/konstantin-nazimov-vojna-s-alyansom-litres.webp)