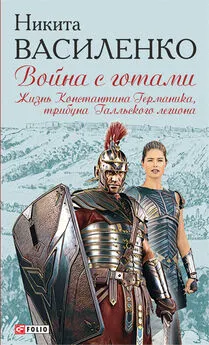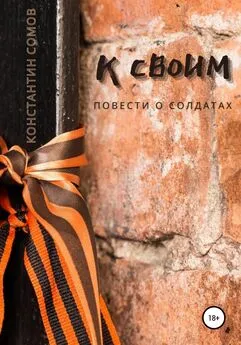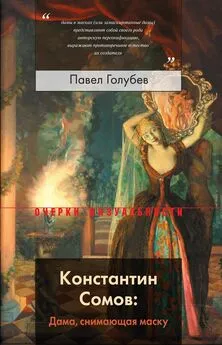Константин Сомов - Война: ускоренная жизнь
- Название:Война: ускоренная жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2010
- Город:Барнаул
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Сомов - Война: ускоренная жизнь краткое содержание
Книга эта начиналась тридцать лет назад, когда мальчишка Костя Сомов услышал на рыбалке от старика историю о том, как жили на войне. Не воевали — жили. Это в кино на войне всегда стреляют. На самом деле боевые действия занимают на войне не так уж много времени. В своей книге Константин Сомов приводит слова нашего земляка, бийчанина Героя Советского Союза Сергея Баканова: «После войны подсчитал: наступал, то есть по-настоящему воевал, восемьдесят восемь суток, в госпиталях валялся, то есть бездельничал — 315 суток, в обороне был 256 суток, учился на командира под Сталинградом 50 суток. И до того, как попал на фронт, околачивался во Владивостоке — 350». Хотя все это тоже была война, но в каждом из этих состояний она была разная. Про это и книжка.
В книге 600 страниц. Сравнительно немного, а вышла целая энциклопедия. Но не холодная и безжизненная, какими обычно бывают энциклопедии, а трогательная и человечная. Всех жаль — и русских, и немцев, и обобранных командиром Попеску качающихся от недоедания румын.
Константин Сомов упоминает сотни разных людей, и о каждом хочется узнать — дожил ли он до Победы? Прочитал, например, про то, как попавшие в окружение бойцы 364-й дивизии стащили у комдива Филиппа Соловьева жеребца — последнюю уцелевшую лошадь. Комдив не стал искать виноватых, подосадовал лишь: «Думаете, мне есть не хочется? Жалко было дураку… Надо было съесть»… Долго искал в разных книжках, выяснил — выжил Филипп Соловьев после окружения и даже командовал потом корпусом.
О многом из того, что написано Сомовым, до него так подробно не писал никто — например, кому, за что и сколько на войне платили денег. Оказывается, еще в августе 1941 года приказом Верховного главнокомандующего для летчиков была введена денежная награда за каждый сбитый немецкий самолет — тысяча рублей. (Логика есть: войну ведь называют работой, а за работу надо платить).
В большинстве же книг, написанных в последние годы, именно заряд любви и сострадания просто не предусмотрен. Авторы придумывают детективный сюжет, помещают в военный антураж любовный, авантюристический или шпионский роман. Возможно, они полагают, что правда о войне — слишком горькая таблетка, надо подсластить или чем-то отвлечь внимание читателя. А скорее всего — так проще: не надо ходить по архивам, не надо слушать стариков. Да их ведь еще найти надо — ветеранов. Вместо этого одни авторы своими книжками воюют с другими: напишет кто-то про Великую Отечественную войну одну книжку, а ему в ответ — десять. А годы идут, и тех, кто помнит войну, остается все меньше. Очень скоро о Великой Отечественной не останется у нас ничего, кроме памяти, заключенной в книжные переплеты. Война становится далекой, перестает быть страшной, а если она не страшна, то чего бы не повоевать вновь? И от того, какими будут книги о войне, зависит, каким будет наше будущее и будущее наших детей…
Война: ускоренная жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Наряду с денежным окладом мы получили единовременное пошивочное пособие, огромную сумму в 750 марок. Вдобавок моя добрая тетя Лоте подарила мне 50 рейхсмарок «на экипировку», выражение, которое она использовала из лексикона старой кайзеровской армии. В письме к моей матери она написала об этом и сказала ей, в растроганных чувствах, что я выглядел «как молодой дворянин».
(В 1944 году денежный оклад лейтенанта Армина Шейдербауера составлял уже 399 марок. — Авт.)
Для рядовых немецких солдат (как и для наших) деньги большого значения не имели, хотя и были не лишними. Тем более что во время «похода в Россию» им, по воспоминаниям Генриха Метельмана (дни наступления на Сталинград. — Авт.), «выплачивали жалованье в рублях, тратить которое было не на что, иногда мы проявляли щедрость в отношении местных крестьян — платили им, хотя вполне могли и не платить. Русских денег было столько, что мы с полным основанием могли считать себя рублевыми миллионерами».
В той же мере, как и немецким солдатам, нацисты платили жалованье своим союзникам, правда, не всем. Ефрейтор «Норвежского добровольного легиона» Едвент Кнель показал, попав в плен в апреле 42-го, на допросе, что за его службу фюреру его родителям в Норвегии ежемесячно полагается 184 кроны, плюс он сам на фронте получал стандартное жалованье солдата вермахта — 66 марок.
Солдат испанской «Голубой дивизии», сражавшийся против нас на Ленинградском фронте, получал немногим меньше Кнеля — 60 марок. Кроме того, завербованные получали подъемные — по 100 песет (25 марок) единовременно, а их семьи в Испании — ежемесячное пособие из расчета приблизительно по 8 песет в день. По мере того как дивизия несла потери, на смену ее первому составу, в который входили в основном фанатики антикоммунизма, все чаще шли люди, соблазненные надеждой приобрести некоторые материальные преимущества.
Среди новых солдат дивизии было также немало нищих и безработных, которые ценой жизни пытались обеспечить своим родным сносное существование. В письмах, полученных солдатами «Голубой дивизии» из Испании и ставших советскими трофеями, попадались и такие, как адресованное одному уроженцу Бильбао: «Дорогой сын. Сообщаю тебе, Пако, что германское правительство платит мне ежемесячно 254 песеты благодаря твоей службе».
Солдаты «Голубой дивизии» имели и возможность «подработки», причем довольно подлым способом. Борьбу с дезертирством вели отряды испанской полевой жандармерии, которые охраняли дороги в тыл. Военнопленный, солдат 262-го пехотного полка, рассказал, что был направлен в караул для задержания перебежчиков, за что ему было обещано 5 тысяч марок (25 тысяч песет). Перебежчик, солдат 269-го полка, рассказал, что во время февральской операции 1943 года в районе селения Красный Бор 80 человек дезертировали в тыл; многие были пойманы и расстреляны на месте.
Но вот к своим румынским или итальянским союзникам отношение немцев было совсем иным. Если сражающийся на фронте солдат вермахта получал две марки в день, то его румынский союзник — 1 марку в месяц. Воевавший на Северном Кавказе ефрейтор 111-й немецкой пехотной дивизии Гельмут Клаусман вспоминал:
«Румынская армия была самая деморализованная. Солдаты ненавидели своих офицеров. А офицеры презирали своих солдат. Румыны часто торговали оружием. Так, у наших «черных» («хиви», добровольно служивших в немецкой армии грузин, черкесов, азербайджанцев. — Авт.) стало появляться хорошее оружие. Пистолеты и автоматы. Оказалось, что они покупали его за еду и марки у соседей румын»
«Кому война» по-немецки
Впрочем, торговали оружием, продавая его не только «хиви», но и напрямую врагу, и сами немцы. В своем «Дневнике немецкого солдата» Кернер Шредер рассказывает, как в 1942 году, когда их часть стояла в белорусском городе Молодечно, его вызвали в штаб, где поинтересовались, сколько винтовок получил у него на складе некто офицер Вендель.
— Офицеру Венделю выдано шестьдесят восемь винтовок, господин подполковник.
Квитанции взял капитан, проверил и сказал:
— Оформлено все правильно. На каждой служебная печать. Но, по нашим данным, не хватает документов еще на сорок четыре винтовки. Тут вчера повесили одного унтер-офицера. Он сбывал оружие ивану (партизанам. — Авт.) за большие деньги.
По воспоминаниям Шредера, немногим позже немецкими «особистами» в таком же грехе был изобличен и повешен и вышеупомянутый Вендель. И не он один.
Вообще неоднократно упоминаемая в этой книге поговорка «Кому война, а кому мать родна» хоть изначально и русская, но по сути национальной принадлежности не имеет. Примеров тому было предостаточно.
Офицер итальянского экспедиционного корпуса Эудженио Корти в своих воспоминаниях об отступлении в январе 1943 года под Сталинградом пишет:
«Один итальянский офицер предложил немцам тысячу марок (7600 лир) за то, что ему позволят десять минут посидеть на санях. Немцы согласились, но через три минуты, прикарманив деньги, выкинули его в снег. Итальянец был уже одной ногой в могиле и не мог себя защитить.
Другой за аналогичную «услугу» отдал золотые часы. Люди, умирающие от усталости, предлагали немцам свои пистолеты, которые пользовались среди них большой популярностью».
Клаус Фритцше о своем путешествии из Германии на советский фронт:
«На краковском аэродроме мы увидели большое количество самолетов самых разных типов, а также летный персонал. Нашей целью был какой-то высший штаб, располагавшийся под Днепродзержинском. Не без труда нам удалось забронировать места в транспортном самолете на следующий день. Имея до следующего утра много свободного времени, гуляем вдоль края летного поля. И вдруг человек в летном комбинезоне кричит в нашу сторону: «Клаус, неужели это ты?» — «Данкварт! Ты откуда взялся?». Оказывается, сосед по школьной скамейке. Невероятно, но возможно.
Он состоит в спецчасти ВВС, задача которой снабжать фронтовые эскадры новой техникой. Они летают по всей Европе, при этом не забывая о себе — покупают дефицит, а затем продают среди своих: спички и зажигалки везут из Германии на Украину, самогон и подсолнечное масло — из Украины в Норвегию; рыбные консервы из Норвегии в Германию и т. д. и т. п. Разумеется, такие трансакции практикуются не без выгоды — их бумажники буквально лопаются от ассигнаций всех оккупированных стран».
Потратить деньги немецкие военнослужащие могли в основном в маркитанской лавке, в аналоге нашего «Военторга», только куда с большим и либеральным ассортиментом.
17 ноября 1942 года немецкий офицер по имени Вольфганг пишет в Германию своей «дорогой, дорогой Ленхен»: «13 ноября ездил в лазарет, который размещался рядом со складом, и навестил заодно нашего больного гриппом командира. Нашел маркитанские товары и приобрел все, что просили. На каждого получилось по бутылке сербского белого вина, полбутылки шампанского, трети бутылки рома, шестой части бутылки ликера, 394 сигареты, туалетная бумага, почтовые открытки, конверты и бумага для писем, открывалка для консервов, шапка-наушники, пятновыводитель, лезвия для безопасной бритвы. Все это обошлось мне в 44 марки и несколько пфеннигов. (Действительно, «Военторг» и рядом не стоял. — Авт.)
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

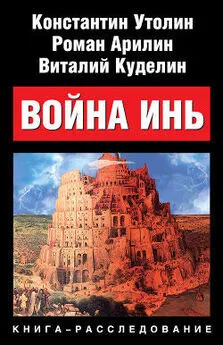
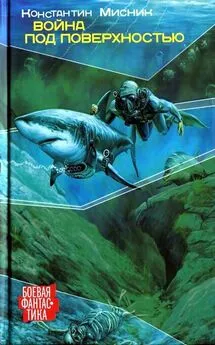
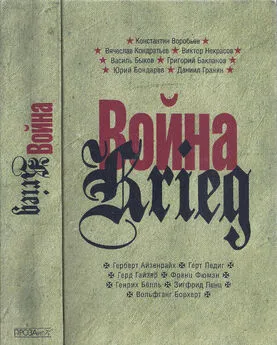

![Константин Назимов - Война с Альянсом [СИ]](/books/1059865/konstantin-nazimov-vojna-s-alyansom-si.webp)
![Константин Назимов - Война с Альянсом [litres]](/books/1150116/konstantin-nazimov-vojna-s-alyansom-litres.webp)