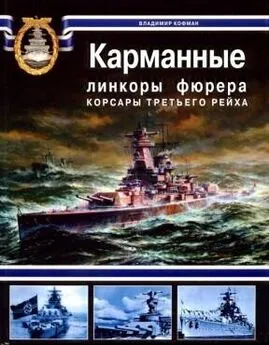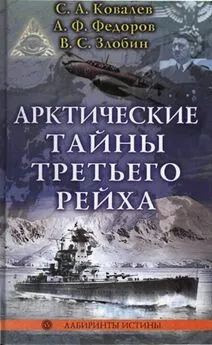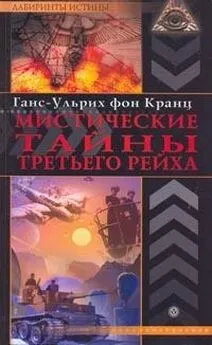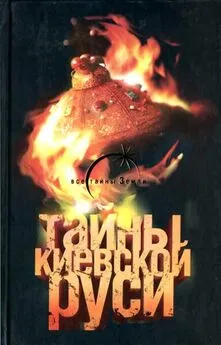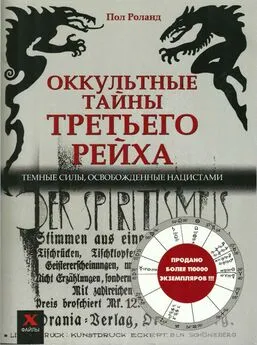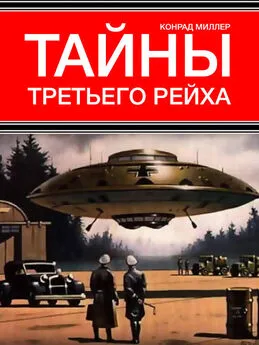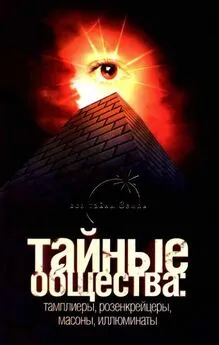Лин Паль - Все тайны Третьего Рейха
- Название:Все тайны Третьего Рейха
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство ACT; Астрель-СПб
- Год:2010
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-17-067121-2; 978-5-9725-1747-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лин Паль - Все тайны Третьего Рейха краткое содержание
Третий Рейх оставил нам множество тайн. Как объединить силы мертвых и силы живых; почему тибетские жрецы охраняли Гитлера; зачем эсэсовцы хотели заменить христианство язычеством; что происходило на тайных базах вермахта; к чему привели поиски загадочных артефактов. Новое прочтение истории — эзотерические знания, магические организации и засекреченные экспедиции, научные опыты и шокирующие признания на смертном одре тех, кто уцелел после крушения Третьего Рейха.
Все тайны Третьего Рейха - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Версальский мир, следовательно, изменивший границы Германии, сделавший их мертвыми, посягнул также и на само существование и развитие этой страны. Да, такая идея Гитлеру не могла не понравиться.
Но, описывая европейские страны и их границы, Хаусхофер пришел к выводу, что на материке существуют два типа народов и два типа сознания, которые сложились из-за географического положения их земель: первые он назвал атлантическими, то есть прибрежными, вторые — континентальными. Пока существует равновесие между землями этих народов, существует мир. Стоит атлантическим странам присвоить себе куски континентальных земель или же наоборот — возникает напряженность, которая не может не завершиться войной.
«Провести четкую линию между анэйкуменой и эйкуменой на суше удается лишь в отдельных местах, — пояснял он, — и убедительно не всегда здесь, так как и считающиеся незаселенными пространства почти повсюду проницаемы при огромной воле к жизни. Обозначенная линия для признаваемых незаселенными зон пунктирна, произвольна, и при этом все равно, будет ли такая попытка предпринята по отношению к подземной среде (chtonisch), то есть определяемой почвой, или по отношению к климатической (klimatisch), то есть определяемой осадками, нехваткой воды или ее избытком. Каждая раса, каждый народ, каждый путешественник и ученый проведут эту линию по-разному: русский, китаец, японец, малаец, тибетец; каждый по-своему нанесет ее, к примеру, на карту Северной, Центральной или Юго-Восточной Азии…
Необычайно убедительное предостережение политической географии состоит в том, чтобы, принимая во внимание все отличительные особенности, искать компромиссы и, прежде всего, помогать находить их в практической политике — само собой разумеется, при самом благоприятном руководстве, обеспечивающем долговечность защищаемой этой границей собственной жизненной формы. При этом большая трудность в том, что как статика и динамика границы, так и ее психологическая и механическая констатация находятся в постоянном столкновении. Эмпирика границы раскрывает более безжалостно, чем теория, и „относительную ценность языковой границы как границы культуры“, ее необыкновенное различие — к примеру, между подобной валу языковой границей на Западе нашей собственной народной земли с „камнями, выпавшими из великой стены“, и взаимопроникновением германцев, славян и жителей Промежуточной Европы (Zwischeneurope) с их тремя большими, соприкасающимися языковыми образованиями на Востоке. Мы часто обнаруживаем, что общественные науки, поощряемые естественно лингвистикой, переоценивают языковую границу, и это, к нашему большому сожалению, привело, например, к насильственной эвакуации или вытеснению в чужеземные области дружественные малые народы, близкие по своей культурной воле к нашей культурной почве и нашему государству (вопрос о мазурах, родственно-дружественные немцам словенцы в Каринтии, навязывание польского литературного языка в Силезии; вопрос о венедах; фризах — как угнетенном меньшинстве и т. д.). Стало быть, единое стремление к жизненной форме, к реализации своей культурной силы и хозяйственных возможностей, своей личности в растущем жизненном пространстве показывает нам эмпирику как решающий фактор для нации, охваченной желанием защищать границу».
К XX веку, утверждал Хаусхофер, «пустых» территорий больше не осталось. Поэтому «абсолютных границ больше нет ни на земле, ни на море, ни в ледяных пустынях полярных ландшафтов. Как раз в наше время взялись за раздел границ Арктики и Антарктики под нажимом англосаксов и Советского Союза. На планете больше нет „по man's land“ — „ничейной земли“. В этой констатации сразу обнаруживается масштаб проблемы противоречия между границей и анэйкуменой, значение признания того, что с быстро растущим оттеснением анэйкумены эйкуменой, с расширением пригодной для жизни земли и с увеличением плотности населения усиливается значение идеи о границе как плацдарме борьбы, как о непрерывно наступающем или отступающем замкнутом, но не сохраняющемся застывшим образовании! Пограничная борьба между жизненными формами на поверхности Земли становится при ее перенаселенности не мирной, а все более безжалостной, хотя и в более гладких формах».
Каким же образом, задавал он вопрос, России удалось за незначительный промежуток времени занять огромное пространство до Тихого океана и даже перейти на другую сторону океана, в Северную Америку, до самой бухты Сан-Франциско, откуда они были только позже вытеснены англосаксами?
«Решающим был все же тот факт, что продвигавшийся в Северную Азию русский не считал эти пространства незаселенными и поэтому проникал туда, в то время как другие крупные народы мира, в том числе восточноазиатские, с чьим жизненным пространством он скоро соприкоснулся, считали их непригодным для жизни, не имеющим ценности пространственным владением или даже придатком, примыкающим к враждебной для жизни северной полярной области. Таким образом русская экспансия в 1643 году приблизилась к последнему крупному резервату культурного пространства Земли — восточноазиатскому, который до этого из всех видов анэйкумены сохранялся как основательная область защиты: между полярной, пустынной, океанской, альпийской и тропической…
Лишь в конце XVIII века японцы ощутили приближающийся натиск и встретили его благодаря спешным северным экспедициям на Сахалин и в богатые рыбой участки в устье Амура под руководством Мамиа Ринзо и Могами Токунаи, которые впервые описал Западу Зибольд. Но затем инстинкт безопасности быстро подтолкнул их собраться с силами для ответного удара: в начале по договорам о совместном управлении с проницаемой северной анэйкуменой через Сахалин и Курилы, затем к разделу, при котором океанские Курильские острова отошли Японии, а близкий к континенту Сахалин — России. Наконец, дело дошло до военного столкновения, в результате которого прежде всего Южный Сахалин вновь оказался в восточноазиатских руках и русские были выброшены из коренных земель Маньчжурии. Прибрежная полоса у Тихого океана и земли севернее Амура остались в руках русских; тем самым Восточная Азия была вытеснена из северной анэйкумены, которую она с тех пор без устали стремится возвратить посредством переселения и экономической экспансии… Таково на сегодняшний день состояние еще находящегося sub judice вопроса об обеспечении линии защиты в североазиатской анэйкумене. Оно указывает, с учетом рассмотрения, по меньшей мере, всей предыстории вопроса, какой широкий процесс происходит в людях и народах в результате борьбы за расширение обжитого пространства Земли вокруг полюса, моря, степи, высокогорья, за раздвижение границ человечества, которая ведется одновременно с продвижением державного мышления в считавшиеся незаселенными области».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: