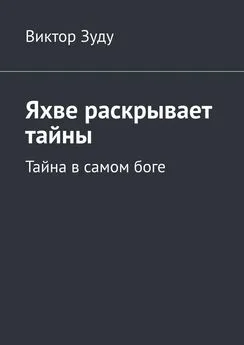Рената Малинова - Прыжок в прожлое. Эксперимент раскрывает тайны древних эпох
- Название:Прыжок в прожлое. Эксперимент раскрывает тайны древних эпох
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-244-00188-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Рената Малинова - Прыжок в прожлое. Эксперимент раскрывает тайны древних эпох краткое содержание
Никто в настоящее время не вправе безоговорочно отвергать новые гипотезы и идеи. Часто отказ от каких-либо нетрадиционных открытий оборачивается потерей для науки. Мы знаем, что порой большой вклад в развитие познания вносят люди, не являющиеся специалистами в данной области. Однако для подтверждения различных предположений и гипотез либо отказа от них нужен опыт, эксперимент. Как писал Фрэнсис Бэкон: «Не иного способа а пути к человеческому познанию, кроме эксперимента». До недавнего времени его прежде всего использовали в естественных и технических науках, но теперь эксперимент как научный метод нашёл применение и в проверке гипотез о прошлом человечества. Именно этой теме и посвящена чрезвычайно познавательная книга чешских исследователей Ренаты Малиновой и Ярослава Малины. В ходе эксперимента учёные и энтузиасты-добровольцы имитировали условия отдалённых эпох, «чтобы иметь полное представление, как жили наши предки, как они работали… что они при этом чувствовали, как относились друг к другу и окружающему миру».
Прыжок в прожлое. Эксперимент раскрывает тайны древних эпох - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Для закрепления лезвия в рукояти экспериментаторы использовали смесь смолы и песка, которая очень хорошо оправдала себя при уборке зерновых и скашивании травы. Затем нагрузку на кремневые лезвия увеличили. Два серпа, один деревянный, почти прямой, а другой роговой, полукруглый, применили для срезания трехметровых стеблей тростника диаметром 9 мм. Полукруглым серпом из рога экспериментатор мог притягивать стебли тростника к себе, так что его работа продвигалась быстрее, чем у его коллеги. За шесть часов они сжали камыши на площади свыше 300 кв. м. Из рогового серпа выпали два куска кремня, деревянный же остался совершенно неповрежденным, поскольку на нем был более глубокий паз и кусочки крмня были вставлены глубже. Кремневое лезвие другого деревянного серпа, подвергнутое испытанию на прочность в растяжении, не отделилось даже при нагрузке в 95 кг.
Земледельцы некоторых районов Средней Азии не имели в своем распоряжении кремня или другого такого же мелкозернистого, твердого и одновременно хорошо скалывающегося камня и поэтому вынуждены были довольствоваться плоской галькой различных зернистых пород (песчаника, кварцита, гранита), которые затачивали точилами из песчаника. Несмотря на то что зернистость их граней выполняла роль ретуши, эти серпы были менее эффективными, чем вышеупомянутые с лезвиями из кремня. Южные соседи среднеазиатских земледельцев, в Двуречье, применяли также серпы с лезвиями из керамических осколков. Однако многие археологи не признают применения таких серпов на практике и считают их культовыми предметами.
Экспериментаторы могли срезать такими серпами зерновые стебли, камыши, тонкие ветки, косить траву, хотя и значительно медленнее, чем серпами с каменными лезвиями. Эти результаты для самих экспериментаторов были неожиданными, и они стали искать основу режущих свойств керамических серпов. Объяснение нашли в наличии мелких частиц твердых пород в керамической массе, которая проходила обжиг при температуре около 1200 градусов.
Распространение металлических (медных, бронзовых, железных) серпов шло очень медленно, и кое-где каменные серпы сохранялись очень долго, вплоть до эпохи бронзы. Преимущества первого металла — меди были еще незначительны. Экспериментаторы установили, что медный серп притуплялся после четырех часов работы, поэтому его нужно было точить. Если он был достаточно широким, то его можно было употреблять довольно долгое время, но он не был более эффективным, чем каменный. Очевидные преимущества принесли только бронзовые и в особенности железные серпы, которые были вытеснены на уборочных работах только острыми стальными косами в XVII веке.
После высушивания скошенных (или, точнее, срезанных) зерновых на солнце, горячих камнях, у огня или в печи земледельцы приступали к обмолоту. Он тоже был нелегким, так как зерна пшеницы заключены в чешую и вымолачивались с большим трудом. Для этого применяли разные способы: небольшие снопы били о стену жилища, о камень, столб или раскладывали их на утрамбованную площадку и били их палками или топтали ногами. На островах западнее Шотландии еще совсем недавно местные женщины, когда им нужно было быстро получить зерно, применяли технику, которая соединяла в одном процессе сушку, обмолот и прожаривание. Пучок колосков женщина совала в пламя. Как только они загорались, она быстро выбивала из них зерно палкой, которую держала в правой руке. Все это она делала молниеносно, иначе зерно могло сгореть.
Такая техника очень простая, а поэтому, наверное, и самая древняя. Позже крестьяне применяли для обмолота цепы (в руках гуситов в XV веке они превратились в грозное оружие), а если у них был скот, то они без колебания перекладывали на него эту нелегкую работу. Шумеры запрягали животных в особые «сани», в нижнюю часть которых были вставлены осколки кремня. Эти «сани» по полуметровому слою стеблей волокли по кругу волы. Известны молотильные доски с кремневыми осколками, найденные в некоторых поселениях эпохи бронзы. Очищали зерно от ости, сорняков. Соломы, листьев и других примесей разными способами. Общим для всех этих способов был поток воздуха (отсюда — «веять»), который уносил из обмолоченного зерна, подбрасываемого вверх руками, деревянными лопатами или плетенками, легкие примеси. Иногда зерно даже промывали, чтобы удалить из него глину.
Вопросы «древней» урожайности зерновых были включены в сельскохозяйственные программы экспериментальных поселений эпохи железа в Лейре и Батер-Хилле. Урожай, собранный в этих поселениях, показывает, что зерно, выращенное древним способом, содержит большее количество протеина, кальция, фосфора, калия и других важных элементов питания человека, чем современное зерно. Количество собранного зерна было довольно большим, но данные, которыми мы располагаем, относятся всего лишь к нескольким сезонам, поэтому более полные и объективные результаты мы получи только через 10–20 лет.
Вы, очевидно, полагаете, что примитивной обработке почвы отвечала и низкая урожайность. Прежде чем мы получим результаты работы экспериментальных центров, обратимся к нашим старым знакомым, русским крестьянам XVIII–XIX веков. Они (на востоке страны) применяли подсечно-огневой способ земледелия, почти такой же, какой знали древние земледельцы.
Одна крестьянская семья могла за год обработать поле площадью в 1 га. Она засевала 100 кг семян, а урожай собрала — 1–1,2 т. А сейчас проведем сравнение: после второй мировой войны урожайность пшеницы с гектара в Пакистане, Индии составляла 0,8 т с гектара, и еще в 1955 году урожайность зерновых с гектара в развитых странах достигала только 1,8 т. Урожайность в 5 т достигнута только в результате применения самых современных химических удобрений. Для пропитания русской крестьянской семьи из пяти человек в конце XIX века достаточно было на год 0,7–0,8 т пшеницы, включая посевную.
Предполагается, что в неолитическом поселении в Биланах (ЧССР) у Кутна-Горы жило около 25 семей. Археологи сделали из этого вывод, что земледельцы поселения обрабатывали поле площадью около 30 га. Для того, чтобы удержать его урожайность на уровне около одной тонны зерна с гектара, они вынуждены были спустя три-четыре года оставлять поле на такое же время под паром. Таким образом в окрестностях поселения они обрабатывали около 60 га пашни. Если же они не могли вернуть истощенному полю плодородие (по всей вероятности, это так и было, так как в Биланах выращивали только пшеницу, а скота у них было мало), то спустя 14 лет они вынуждены были в поисках нового участка перенести свое поселение на новое место. Археологи, исследовавшие поселение в Биланах, пришли к этому выводу, установив, что ямы для хранения зерна каждый год обмазывались заново, а таких обмазок оказалось четырнадцать. На прежнее место они могли вернуться не раньше чем через 30–40 лет, когда на старом поле вырастал новый лес, так что можно было повторить подсечно-огневой способ.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
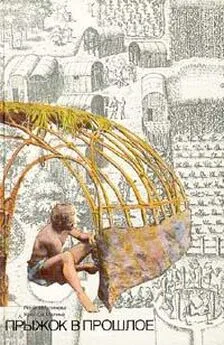
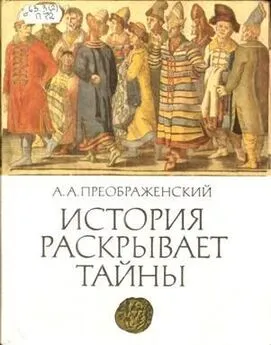
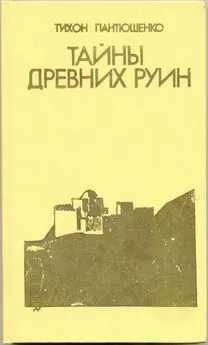

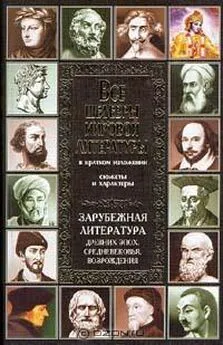

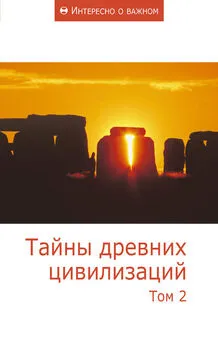
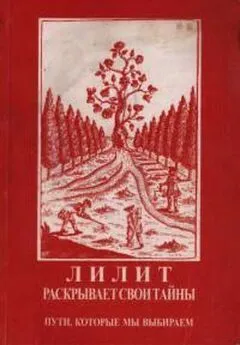
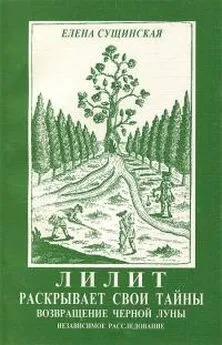
![Стивен Строгац - Бесконечная сила [Как математический анализ раскрывает тайны вселенной]](/books/1150749/stiven-strogac-beskonechnaya-sila-kak-matematicheski.webp)