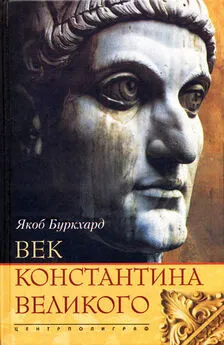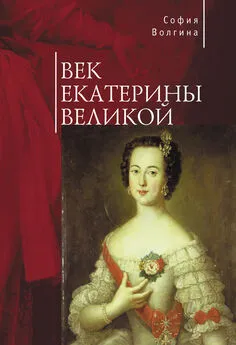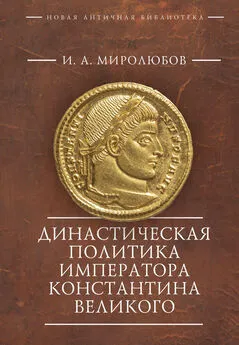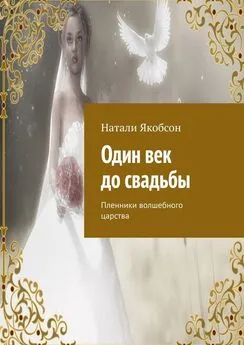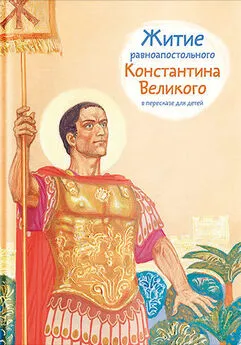Якоб Буркхард - Век Константина Великого
- Название:Век Константина Великого
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-9524-0395-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Якоб Буркхард - Век Константина Великого краткое содержание
В книге описывается переходный период от Античности к Средневековью, ознаменовавшийся приходом и укреплением в Римской империи новой религии – христианства. Автор дает оценки исторической роли императора Константина Великого, который сначала завоевал римский мир, а затем обратил его в новую религию, сохраняя языческие культы и последовательно проводя централизацию государственного аппарата.
Век Константина Великого - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
После периода испытаний в жизни аскета наступал новый этап, вызывавший смешанные чувства. Мир, нуждающийся в помощи, узнавал о нем, прозревал в нем нечто необычное и возвышенное и отыскивал его в глуши. Отшельник начинал творить чудеса, без помощи мистерий и фантасмагорий, посредством одной только молитвы. Приносило ли это пользу душе его? Не вспыхивала ли в ней неизбежная гордость? Вокруг собирались почитатели и строили рядом собственные кельи; рано или поздно ему приходилось признать их своими учениками, и из-за количества посетителей он вскоре начинал нуждаться в помощниках. Наполовину против своей воли он становился «отцом», господином. Антоний, несколько десятилетий такую жизнь терпевший, бежал наконец в глубину пустыни (около 310 г.) и там, в окрестностях Афродитополя, обнаружил гору и несколько пальм, питаемых сбегавшими с нее ручейками. Но и там отыскала его братия, и ему пришлось разрешить поселиться с ним двоим из них – Пелузиану и переводчику Исааку. Снова к нему повалили бесконечные паломники, еретики и православные, высокие римские чиновники и языческие жрецы, здоровые и больные, в таких количествах, что сочли необходимым создать постоянно действующее верблюжье сообщение от Афродитополя через пустыню к жилищу отшельника. Ему не оставалось ничего, кроме как выстроить труднодоступную келью на отвесной скале, чтобы скрываться туда хотя бы изредка. Последним его велением было хранить в тайне место его погребения, поскольку богатый землевладелец, живший по соседству, уже поджидал его тела, дабы соорудить у себя в поместье martyrium, то есть церковь с гробницей святого, вероятно надеясь извлечь из этого деловую выгоду. Двое учеников сдержали слово, видимо боясь самого Илариона.
Ибо Иларион отправился в Египет, тоже стремясь лишь спастись от невыносимого наплыва посетителей и от опеки тысяч товарищей-пустынников, присоединившихся к нему в пустыне у Газы. В его биографии, одном из наиболее интересных произведений Иеронима, весьма живо описывается, откуда взялась и как выглядела эта толпа. В Газе и ее гавани Маюме стало известно, что в пустыне живет святой отшельник. Благородная римская дама, трое детей которой во время путешествия заболели лихорадкой, пошла к нему в сопровождении служанок и евнухов и слезами и стенаниями вынудила его пойти в Газу, где он и исцелил детей. С тех пор паломничества из Сирии и Египта не прекращались, однако в непосредственном соседстве язычество обороняло свои позиции особенно упорно. Великий бог Марна в своем храме в Газе вступает с Иларионом в настоящее состязание, и в торговом, привыкшем к роскоши городе происходит раскол, понять суть которого представляет определенную трудность. Выражается этот раскол в том, что к святому постоянно приводят одержимых, то есть преимущественно тех, кто разрывался между двумя религиями, причем обе были демонические. Теоретически жертва не сознавала, что она одержима; согласно древнейшему, более общему взгляду, демон самостоятельно выбирал себе человека или животное, или же его могли призвать злобствующие чародеи. Так, Иларион однажды исцелял бесноватого верблюда. Демон воспринимался как другая личность, отдельная от одержимого, и мог, например, говорить по-сирийски или по-гречески, тогда как жертва знала только латынь и франкский. Демон олицетворяет злых языческих богов, и в данном случае, конечно, Марну. Соревнуясь с идолом, святой отступил от своих принципов и противопоставил языческой магии христианскую. Один из цирковых антрепренеров города Газы, еще не обращенное должностное лицо, почитал Марну, и у него был чародей, который помогал выиграть лошадям своего патрона и замедлял бег коней противника. Последний, христианин Италик, воззвал к Илариону, который сперва высмеял его и спросил, почему тот не продаст лошадей и не раздаст полученное бедным. Но святого тронуло естественное желание этого человека искать поддержки у Господнего раба, а не у колдуна, а также мысль, что речь идет и о победе христианства в целом. Он дал Италику чашу с водой, которой следовало окропить животных, колесницу, конюшню, наездника и запоры карцеров. Зрители с напряженным интересом следили за ходом скачек, лошади христианина легко выиграли, и даже язычники кричали: «Христос победил Марну!» – так что многие после этого обратились. Тем не менее однажды Иларион исцелил смертельно больного циркового наездника лишь с тем условием, чтобы тот навсегда оставил свое ремесло.
Как чудотворцами, так и монахами отшельники становились наполовину против своей воли. Жилища тех, кто последовал за ним в пустыню, постепенно образовали монастырь, глубоко преданный своему настоятелю.
В Египте пример такого рода представляет не только община иудеев-терапевтов, которая вела подобный же образ жизни у озера Мареотида, но и те, кто обитал в каморках при святилищах Сераписа; то была жесточайшая из форм аскетизма, однако в христианском мире находились люди, пусть и немногочисленные, кто отважился принять на себя этот подвиг. Помимо того, в тамошнем климате умеренность была не только возможна, но и необходима, и, как мы увидим, развитая промышленность страны облегчала существование неженатым ремесленникам, не имевшим или почти не имевшим земельной собственности. Везде, где бы ни поселился Антоний, собирались бесчисленные анахореты, и он наставлял их молитвой, примером и поучениями; но он никогда не считал целью своей жизни создание для них устава и не находил нужным руководить ими согласно заранее выработанному плану. Этим скорее занимался Пахомий, живший приблизительно в первой половине IV века. Молодым человеком он понял цену жесткой дисциплины, побыв недолгое время солдатом, и применил это знание на практике в знаменитом монастырском сообществе в Тавенне, между Тентиритом и Фивами. Еще при нем там жило несколько тысяч монахов, и правила, установленные им, получили применение в других монашеских объединениях, возникавших тогда же или позднее. Из них наиболее значительны: арсинойское, располагавшееся неподалеку от озера Мерида (десять тысяч обитателей во времена Валента); поселение в Нитрийской или Скитской пустыне, к западу от Дельты; так называемая Еремика поблизости от Александрии; и, наконец, отдельные монастыри и кельи, разбросанные по всему побережью Средиземного моря и озера Мареотида, а также расположенные на Красном море и Синайском полуострове. Но Тавенна была самой могущественной; на памяти Иеронима пятьдесят тысяч монахов сходились на праздник Пасхи; они не обязательно жили в главном монастыре (monasterium majus), собирались люди изо всех поселений, входивших в общину Тавенны. Оказывается, не все монастыри располагались в пустыне; еще до конца IV века они начали появляться и в городах, борясь с остатками язычества. Так, например, храм Канопа в одноименном городе превратился в монастырь Метанойя («покаяние»). По своей структуре эти учреждения были отчасти монашескими, то есть там имелись большие дома, где могло жить много иноков, а отчасти они представляли собой lauras – ряд удаленных друг от друга келий, тоже в своем роде жилища отшельников. Во времена, о которых идет речь, в Египте такой образ жизни избрали по меньшей мере сто тысяч человек. Кроме того, мы узнаем и о появлении женских монастырей; один из них, руководимый сестрой Пахомия, уже в 320 г. насчитывал четыреста обитательниц.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: