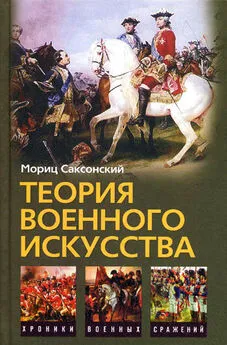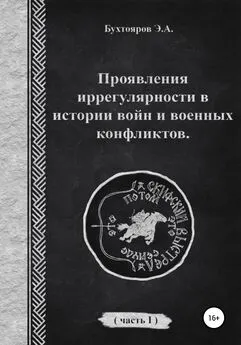Франц Меринг - История войн и военного искусства
- Название:История войн и военного искусства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Полигон
- Год:1999
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-89173-056-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Франц Меринг - История войн и военного искусства краткое содержание
В книгу вошли очерки и отдельные главы из трудов Ф. Меринга, в которых освещается эволюция военного искусства, начиная с греко-персидских войн до наполеоновских. Для российского читателя будет необычным то, что историю ряда войн автор рассматривает с позиции Пруссии и ее национальных интересов. Но эта позиция Ф. Меринга делает книгу еще более увлекательной, захватывающей. Она рассчитана на широкий круг читателей и, несомненно, не оставит их равнодушными, пробудит еще больший интерес к военной истории.
История войн и военного искусства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Таким образом, каждая сторона действовала как будто последовательно и логично, но при всем том положение не было так просто: существовало еще более тонкое различие. Чтобы правильно представить себе положение вещей, необходимо привести здесь дословно «мотивированное заявление», сделанное Бебелем и Либкнехтом в северогерманском рейхстаге 21 июля 1870 г. Оно гласило:
«Современная война есть династическая война, предпринятая в интересах династии Бонапарта, так же как война 1866 г. была предпринята в интересах династии Гогенцоллернов. Мы не можем согласиться на требуемые от рейхстага средства для ведения этой войны, так как это было бы вотумом доверия прусскому правительству, которое своим поведением в 1866 г. подготовило настоящую войну; тем менее можем мы отказать в требуемых средствах, так как это могло быть принято за одобрение преступной и насильнической политики Бонапарта.
Как принципиальные противники династической войны, как социалисты-республиканцы и члены Международной рабочей ассоциации, которая без различия национальностей борется со всеми угнетателями и старается объединить всех угнетенных в общий братский союз, мы не можем ни прямо, ни косвенно высказаться за настоящую войну и воздерживаемся поэтому от голосования, высказывая свою полную уверенность, что народы Европы, наученные этими тяжелыми событиями, употребят все усилия, чтобы завоевать себе право самоопределения и устранить современное насильническое классовое господство как первопричину всех государственных и общественных несчастий».
С первого взгляда видно, что этот документ содержит в себе две совершенно различные точки зрения: конкретное обоснование воздержания от голосования и принципиальный протест против войны, который вытекал из социалистического мировоззрения и который был упущен лассальянцами. Это доставило большое удовлетворение Карлу Марксу: впервые в официальном собрании в вопросе мирового значения было смело и свободно развернуто знамя Международной рабочей ассоциации. «В этот момент, — писал Маркс месяцем позже Энгельсу, — „принципиальность“ является „acte de courage“» [56] Акт смелости. — Ред.
, и он одобрил ее в одном из своих писем к Либкнехту. Уже самый слова Маркса показывают, что, выражая свое одобрение, он имел в виду лишь принципиальную сторону мотивированного заявления, а не конкретное обоснование воздержания от голосования, которое, во-первых, не представляло собой ничего принципиального, а скорее было обратным ему, во-вторых, не излагало ясно отношения подписавших его к «моменту», и, в-третьих, не представляло собой «акта смелости» в том смысле, что оно заключало в себе самом свое оправдание. Если бы Маркс понимал свое «acte de courage» в этом смысле, то он должен был бы еще в большей степени похвалить храброго Тьера, смело говорившего во французской палате против войны, несмотря на то, что мамелюки империи окружали его с дикими угрозами; он должен был бы похвалить также буржуазных демократов, вроде Фавра и Греви, которые не воздержались от голосования военных кредитов, но просто их отклонили, хотя патриотический шум в Париже был не меньше, чем в Берлине.
В действительности воздержание от голосования Бебеля и Либкнехта в июле 1870 г. не произвело большого впечатления, как это можно заключить из тогдашних газет. Буржуазная пресса отнеслась к этому, по меньшей мере, так же, как и к давно забытому факту, что лассальянцы Фрицше и Газенклевер вместе с буржуазным демократом Вигардом остались сидеть при чтении проекта адреса, в котором рейхстаг должен был отвечать на тронную речь, причем Газенклевер сделал заявление в буржуазной газете, что они не хотели «почтить вставанием работу палаты». Газенклевер был против тактики Бебеля и Либкнехта и, при тогдашнем озлоблении социал-демократических фракций, резко использовал их голосование против них же, вступив в горячие прения с ними на рабочем собрании в Лейпциге.
Гораздо важнее, что воздержание от голосования в действительности было не практической политикой, но моральной демонстрацией, которая, как бы она ни была справедлива сама по себе, не отвечала политическим потребностям момента. Если в частной жизни допустимо и очень разумно сказать двум спорящим: вы оба не правы, и я не вмешиваюсь в вашу ссору, — то это совершенно недопустимо в государственной жизни, где народы должны расплачиваться за ссоры своих королей. Практические следствия недопустимого нейтралитета резче всего проявились в ясной и последовательной позиции, которую заняла «Фолькштадт» (газета) в первые недели войны. Он (нейтралитет) возбудил у Энгельса и Маркса большое неудовольствие; Энгельс насмехался над «забавным утверждением», что главным основанием оставаться нейтральным является то, что Бисмарк был ранее товарищем Бонапарта; если бы таково было общее мнение в Германии, то вскоре у нас был бы снова Рейнский союз. Подробно развитое им положение, — в письме к Марксу от 15 августа 1870 г., — почему рабочий класс должен желать поражения бонапартизма и победы Германии, — положение, с которым Маркс был совершенно согласен, очень часто печаталось в последнее время, так что здесь, за недостатком места, мы его не приводим.
Ошибка воздержания от голосования была в том, что Либкнехт и Бебель рассматривали войну главным образом с моральной точки зрения. Это было их искреннее убеждение, которого они придерживались и позднее; стоит лишь просмотреть статьи Либкнехта об эмской депеше или записки Бебеля, чтобы убедиться в этом. Правда, то, что было в первую половину войны их слабостью, то сделалось во вторую половину войны их силой. После Седана кончилась «революция сверху», как можно было назвать войны 1859, 1866 и 1870 гг.; все происходившее после этого не только не имело в себе ни малейшего атома революции, но и исторически являлось чистейшей реакцией и снова делало возможным для социал-демократической партии одновременно практическую и принципиальную политику. Все социал-демократические фракции тотчас же воспользовались этой свободой; лассальянцы также боролись против аннексии Эльзас-Лотарингии, приветствуя Парижскую коммуну; Либкнехт же и Бебель вели борьбу с таким пылом, с такой выдающейся смелостью, короче, во всеоружии таких высоких моральных качеств, что слава этих дней с полным правом связана прежде всего с их именами. Лишь в течение лет и десятилетий постепенно возникла та легенда, которая хотела видеть сильнейший пункт позиции Бебеля и Либкнехта там, где был ее слабейший пункт.
Если искать в прошлом прецедентов, на основании которых можно было бы определить политику настоящего времени, то ясно, что голосование 21 июля 1870 г. не может служить для этой цели: ни воздержание от голосования Бебеля и Либкнехта, ни вотирование кредитов со стороны лассальянцев. Эти вотумы имели место в том принудительном положении, которое создалось вследствие революции сверху и уже в 1859 г. заставляло Энгельса и Лассаля употреблять «подземные аргументы». Примером для настоящего времени могла бы служить лишь тактика всей партии в дни после Седана.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: