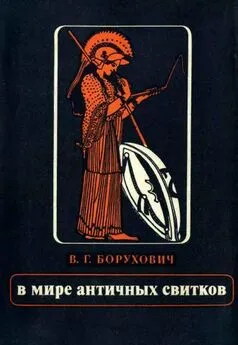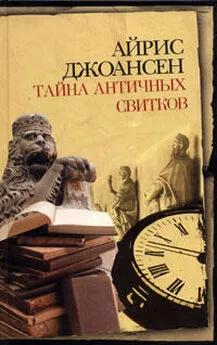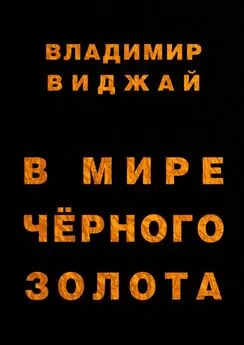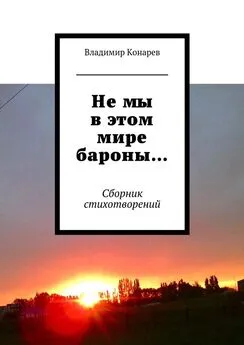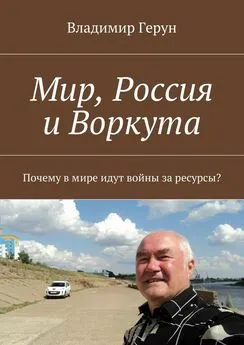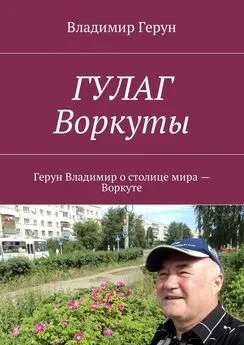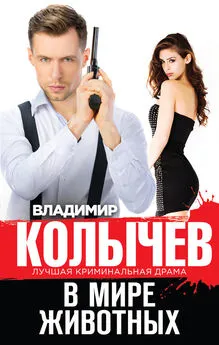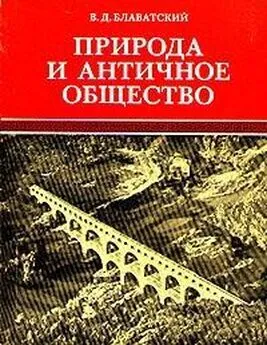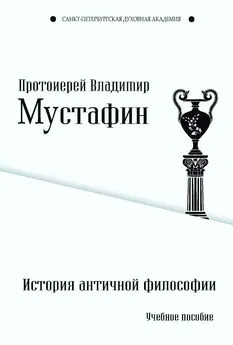Владимир Борухович - В мире античных свитков.
- Название:В мире античных свитков.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Саратовского университета, Университетская, 42
- Год:1976
- Город:Саратов
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Борухович - В мире античных свитков. краткое содержание
На страницах этого научно-популярного очерка рассказывается о первых шагах, сделанных человечеством на пути создания книги — величайшего детища цивилизации. Вместе с автором читатель пройдет по залам древних библиотек и познакомится с предками современной книги, книгой-свитком и книгой-кодексом. Из Египта, ставшего родиной книги, она распространилась по всему цивилизованному миру, но только у греков и римлян она заняла центральное место в культурной жизни, став главным источником научной информации н вещественным носителем произведений художественного слова.
Одновременно читатель узнает о процессе производства первой бумаги человечества — папируса, о том, как издавалась и отделывалась античная книга. Особое внимание при этом уделяется городу Александрии, где была создана величайшая библиотека древности, и Риму как центру книготорговли и книжного дела вообще.
В мире античных свитков. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В пергамене различают две стороны — белую и гладкую (бывшая внутренняя сторона шкуры), и более грубую, имеющую желтоватый цвет (бывшая наружная, покрытая волосами сторона шкуры). Однако не во всех сохранившихся образцах можно заметить различия сторон. Античность, по-видимому, знала свои секреты производства, о чем говорят сохранившиеся позднеримские образцы пергамена, отличающиеся особо тонкой выделкой. В древнейших греческих и римских книгах, написанных на пергамене, «волосяная» и «мясная» стороны прилегали к себе подобным [115] Löffler K. Einführung in die Handschriftenkunde. Leipzig, 1929, S. 49.
.
Преимущества пергамена обеспечили ему ведущую роль в производстве книги. Эти преимущества заключались прежде всего в долговечности и прочности этого материала, тогда как папирусные книги-свитки от частого перематывания, атмосферной влаги, механических повреждений разрушались довольно быстро: папирусная книга старше 200 лет в античности считалась большой редкостью. Кроме того, пергамен можно было исписывать с обеих сторон без опасения, что чернила проникнут на другую сторону. По этим причинам пергамен был более подходящим материалом для изготовления кодексов. Да и сама книга-кодекс была по форме более удобной: ее можно было быстро листать без опасения повредить страницы, возвращаться — притом очень быстро — к уже прочитанному месту, закладывать нужные места и сразу их открывать. Это было особенно важно в юридической практике, когда надо было быстро процитировать нужную юридическую формулу («кодекс законов»), и еще более важно в церковном обиходе, где приходилось особенно часто цитировать «Священное писание» (в эпоху раннего средневековья в обращении находились главным образом книги религиозного содержания). Кодекс из пергамена имел также то преимущество, что деление сочинения на части («книги»), соответствующие современным главам, не требовало отдельных свитков — все могло уместиться в одном кодексе, занимавшем гораздо меньше места, чем совокупность свитков: кодекс был гораздо более удобным в пользовании, портативным и легким. Победа кодекса над свитком символизировала идеологическую победу христианства над «язычеством» — произведения греко-римской литературы сохранялись еще в свитках, тогда как новые христианские книги изготовлялись в виде кодексов, форма которых, таким образом, ассоциировалась с их содержанием.
Переход к кодексу значительно облегчал работу копииста: с листом пергамена манипулировать было гораздо проще. В средние века копирование кодексов осуществлялось каждым копиистом в отдельности — работа целой группы копиистов под диктовку была здесь исключена. Такой резко индивидуализированный процесс изготовления книги обусловил расцвет искусства каллиграфии, с одной стороны; с другой, делал саму книгу дорогой и редкой, превращал ее в предмет обихода немногих привилегированных людей, — преимущественно, духовного сословия. Писец не писал, а священнодействовал: переписка книг считалась богоугодным делом первостепенной важности, и монахи, занимавшиеся этим, были, как правило, освобождены от всех других работ в монастыре [116] Монахи-переписчики не всегда, однако, понимали текст, который они копировали. Известен случай, когда монах, переписавший текст фривольной поэмы Овидия «Искусство любви», добавил в конце переписанной книги, что сделал это «для вящей славы девы Марии».
.
Писец сидел (или стоял) за пюпитром с наклонной плоскостью, рядом с изготовлявшейся копией лежал оригинал и орудия письма. В такой позе мы видим писцов на миниатюрах средневековых книг. Как и их античные предшественники, они пользовались чернилами двух цветов, черными и красными. Красным цветом выписывались инициалы, начальные строки, заглавные буквы абзацев и начальные строки абзацев, слова incipit («начинается») ив конце книги explicit («кончается»). Стремление выделить начало книги, главы, абзаца (иногда строки) особой формой и отделкой начальной буквы породило особый вид средневекового изобразительного искусства, который иногда, называют «ицициальной орнаментикой» (по-немецки Initialornamentik), восходящий своими традициями к античности [117] Там же, с. 136.
. Нельзя не поражаться редкой красоте этих начальных литер средневековой книги, в орнаменте которых искусно переплетаются растительные и животные мотивы: иногда это целые миниатюрные картины, требующие пристального рассмотрения. Как мы увидим ниже, далеко не все писцы обладали талантом художника, и обычно для таких миниатюр писец оставлял пустое место, которое затем заполнял своим рисунком художник-«миниатор».
Старательный писец, не обладая часто достаточной грамотностью, — воспроизводил и ошибки оригинала. Альфонс Дэн в своей книге приводит следующий забавный случай. Копиист, переписывавший флорентийскую рукопись Ямвлиха, натолкнулся на место, которое было испорчено: текст оказался разорванным и переписанным непоследовательно. В конце текста, попавшего не на свое место, в оригинале имелся знак, отсылающий читателя назад, к тому месту, где этот текст должен был находиться. Но копиист, дойдя до этого знака, стал переписывать текст вновь с того самого места, где произошел разрыв, и вновь переписал его до того знака, которым читатель отсылался назад. «Он мог бы продолжать этот Сизифов труд до бесконечности», — иронически замечает Дэн по этому поводу [118] Dain A. Op. cit., p. 34.
.
Книгу из пергамена можно было отделывать гораздо более тщательно, чем книгу из папируса. Здесь, может быть, кроется секрет того, что средневековые книги так часто становились подлинными произведениями искусства. Изготовленную из пергамена книгу-кодекс можно было украшать иллюстрациями из непрозрачных (грунтовых) красок — таких, каких папирус не смог бы выдержать. Поэтому художнику, украшавшему такую книгу, открывалось широкое поле деятельности. Они назывались, как уже здесь говорилось, миниаторами (от слова minium, киноварь) или иллюминаторами, а сами кодексы, украшенные миниатюрами, — иллюминованными кодексами. Переплет изготовлял лигатор , застежки — фибуларий . Особо дорогие переплеты изготовлялись ювелирами.
Прообразом книги-кодекса был полиптих, несколько соединенных вместе восковых табличек. В древнейшее время они также назывались латинским словом «каудекс». «Древние называли словом “Каудекс” соединение нескольких табличек» — пишет Сенека (De brev. vit., 13). Так как полиптих можно было многократно переворачивать, «листать», это же название было перенесено на сшитые вместе листы пергамена.
Латинский кодекс, как и свиток, не имел титульного листа и начинался обычно со слов «incipit liber» — «начинается книга» (далее могло следовать имя автора и название произведения). В конце книги ставились слова «explicit liber», «заканчивается книга». Глагол explicit произведен от корня plicare, «сворачивать в трубку» — таким образом, происхождение термина связано с книгой-свитком.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: