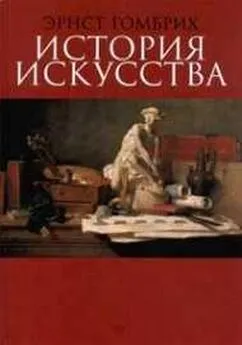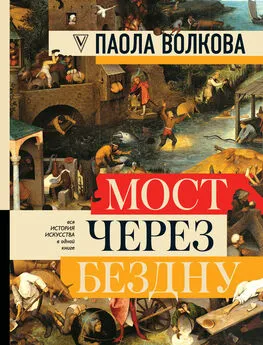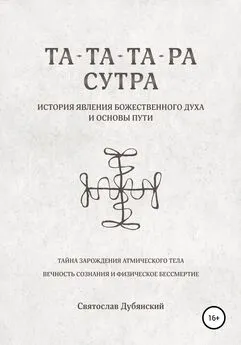Макс Дворжак - История искусства как история духа
- Название:История искусства как история духа
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гуманитарное агентство «Академический проект»
- Год:2001
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-7331-0136-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Макс Дворжак - История искусства как история духа краткое содержание
Книга выдающегося австрийского искусствоведа Макса Дворжака (1874-1921) — классическое исследование средневекового европейского искусства, не утратившее своего значения и по сей день. Автор рассматривает средневековую культуру как целостный феномен, уделяя много внимания философским и историко-социологическнм аспектам искусства Средневековья. Среди глав книги: «Живопись катакомб: начала христианского искусства, «Идеализм и натурализм в готической скульптуре и живописи», «Питер Брейгель старший» и др. Книга впервые издается в полном составе.
История искусства как история духа - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Около конца 50-х гг. Брейгель начал иначе воспринимать свои картины. В главных произведениях этого времени(«Пословицы» в Берлине, «Битва масленицы с постом» и «Детские игры» в Вене) мы находим, что безудержная путаница предыдущих композиций заменена ясной, обозримой и единообразно воспринятой изобразительностью. Правда, Брейгель еще последовательней, чем раньше, избегает выделения особой индивидуальной значительности отдельных фигур. Так например, играющие дети распределены по сцене изображения равномерно, почти как узор ковра. Кажется, что мастер старался противопоставить искусно построенным итальянским композициям их величайшую противоположность, распыляя единство картины на одинаковые основные элементы.
Еще больше, чем в ранних картинах, бросается теперь в глаза отсутствие всякой централизованности. Равномерно, почти как шахматные фигуры, покрывают отдельные фигуры и группы сцену картины, будучи связаны между собой одинаковостью жизненного поведения и веселой, юношески подвижной игрой, которую можно было бы продолжить во все стороны.
При этом, однако, изображение естественной инстинктивной жизненности, которая дается в неограниченных примерах и обусловлена только общими предпосылками человеческого бытия, не является, как в прежних подобных изображениях, хаотическим нарушением границ любого художественного строя и не исчерпывает своего значения нагромождением повествовательных моментов. Несмотря на подвижные группы, общее впечатление изображения спокойно; над шумливой детской возней возвышается спокойствие пространственной сцены.
Эта сцена достойна большого внимания. Над нею господствует широкая плоскость почвы, в которую превращен передний план и которая образует театр изображаемых действий. Здания и перспективы боковых улиц обрамляют, не запирая ее, площадку, которую художник изобразил с находящейся вверху точки, так что мы можем ясно и отчетливо видеть все, что на ней происходит. Основным здесь является не распространение изображения по плоскости и не переход от мотива к мотиву в глубину в связи с перспективной конструкцией, а желание облегчить мгновенный охват ситуации, как это лучше всего сделать с высоты птичьего полета, к которой приближается изображение.
Приемы Брейгеля не были совершенно новы. Подымающаяся поверхность почвы, часто встречающаяся у предшественников Брейгеля, может считаться предварительной ступенью, равно как и обычай иллюстраторов делать яснее изображение сложных событий и мест путем перспективы сверху. Но то, что до тех пор было только компромиссом между обычным изображением пространства и широко раскинутым рассказом или же чисто техническим приемом, у Брейгеля превращается в самостоятельное, сознательно применяемое средство выражения художественного отношения к окружающему миру. Художник стоит над миром, но иначе, чем Микеланджело и его последователи, художественная мысль и воля которых подымались над будничной действительностью в самих изображаемых ими формах и предметах, в сверхчеловечности или идеальности тел, в объединении пластических форм в могучие апофеозы освобожденных и художественно укрощенных сил и энергий, в возвышенной жизни, в пафосе и драматическом конфликте физического и психического.
Брейгель, напротив, ставит перед нашими глазами жизнь так, как она есть, — как определенный отрезок неисчерпаемого, ускользающего от всех абстрактных норм многообразия, как если бы он действительно хотел показать ее зрителю на сцене.
Но одним впечатлением реальности у Брейгеля дело не ограничивается, как у более старых натуралистов, которые вполне подчинялись этой действительности, стараясь ею овладеть всецело путем изучения и тщательного подражания отдельным моментам явлений через эмпирические правила, вплоть до допускающих объективную проверку перспективных законов и анатомической точности. У Брейгеля же точка зрения сдвинута. Он — наблюдатель, перед глазами которого развертывается жизнь, воспринимаемая им как целостное единство. Речь идет не о том, чтобы противопоставить действительности художественно осознанный, идеализированный мир, и не об отдельных факторах явления действительности, а о новом понятии реальности всего человеческого существования так, как оно вскрывается наблюдающему и размышляющему уму. Ударение здесь на интуиции самого художника; он открывает как бы социальную жизнь в ее естественных жизненных отличительных чертах, силах и соответствиях; и организуя эти открытия, — пожалуй, не самые незначительные открытия великого века, — он поднимает художественно (поэтически и изобразительно) и себя, и зрителя до более высокой ступени жизненного сознания.
Это восприятие окружающего мира отражается также в пространственном изображении и в его отношении к художнику и зрителю. В натурализме XV в. художник и изображение были соподчинены друг другу, их связывало представление объективной закономерности, ясно воспринимаемое в художественном произведении. В новом идеализме итальянцев, поставившем произведение искусства над естественными обусловленностями, взгляд, связующий реальное со сверхреальным, все больше обращается ввысь. У Брейгеля же он направлен вниз с высокой башни субъективно-индуктивного восприятия жизни и жизненной мудрости, направлен на общность жизни, изображение и толкование которой сделались одною из главных задач северного искусства.
Брейгель создал всем этим композиционный принцип, который диаметрально противоположен второму великому субъективно направленному принципу XVI в. — принципу Микеланджело; в силу этого он и должен был принести другие плоды. Образное мышление Микеланджело отделяется от исторических и местных границ, его фигурные фантазии — всечеловечны и абсолютны «во времени и вечности». Брейгелевское же искусство рассказа, напротив, все больше обращается к временно и местно определенному, но обращается не ради натуралистических наблюдений или той или другой формальной проблемы, а потому, что сама человеческая жизнь в ее естественной обусловленности и многоразличности сделалась источником значимого для всех и художественно возвышающего.
Это относится не только к изображению общественных состояний, но и к передаче природы в ее связи с человеческим бытием.
Достойно внимания, что у Брейгеля, который как живописец видов ездил в Италию, пейзажные построения после его возвращения с юга играли вначале скорее малую роль. По временам он, правда, рисовал для своего издателя ландшафтные сцены, которые были построены так же патетически, как и возникшие в Италии, или же представляли объединение этюдов с натуры в повествовательное целое; но его гораздо больше занимали образные представления, центральной точкой которых было человеческое бытие. И только в конце 50-х годов, только тогда, когда Брейгель начал воспринимать проблему природных жизненных соответствий в ее глубокой значительности, когда он — в связи с этим переломом — чрезвычайно обогатился содержанием и новыми образными концепциями и вступил на те пути, которые должны были его привести к грандиозным созданиям позднего времени, к новой эпохе в художественном восприятии и изображении жизни, — только тогда пейзаж приобрел новый смысл для его творчества [127].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: