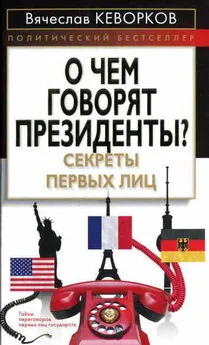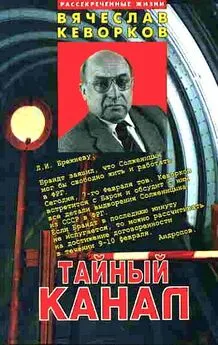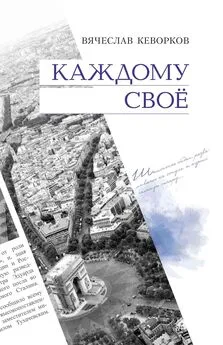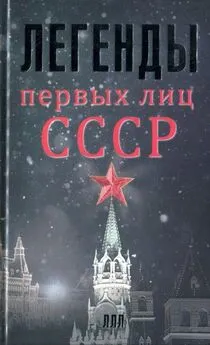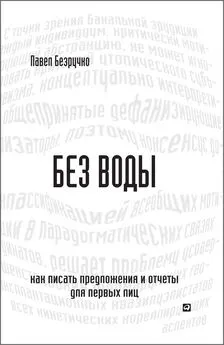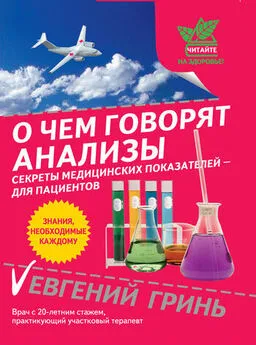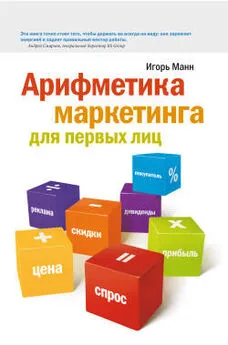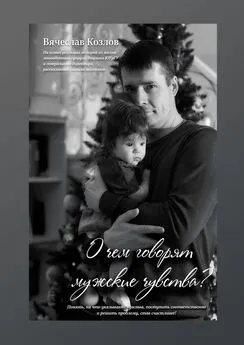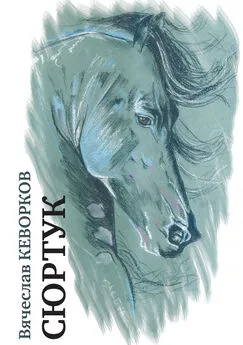Вячеслав Кеворков - О чем говорят президенты? Секреты первых лиц
- Название:О чем говорят президенты? Секреты первых лиц
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алгоритм
- Год:2011
- ISBN:978-5-4320-0006-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Кеворков - О чем говорят президенты? Секреты первых лиц краткое содержание
Проблема утечки тайной информации существовала всегда, еще до сенсационных разоблачений сайта «Викиликс». Советский Союз активно вел переговоры с ближайшими союзниками США по НАТО, но те требовали полного засекречивания канала связи, потому что не хотели, чтобы о содержании переговоров узнали в Вашингтоне. Сначала таким образом осуществлялись контакты между советским руководством с французским президентом де Голлем. Они оказались настолько успешными в смысле сближения позиций Франции и СССР, что привели к ликвидации штаб-квартиры НАТО в Париже и выходу Франции из военной организации Альянса в 1966 году. В 1969 году «тайный канал» начал действовать между руководством ФРГ и СССР. Переговоры тоже весьма успешно завершились с точки зрения советских внешнеполитических интересов: ФРГ признала социалистическое немецкое государство — ГДР и границы со странами Варшавского договора по Одеру и Нейсе, сложившиеся по итогам Второй мировой войны.
О тайном канале связи между руководством СССР и ФРГ рассказывает в книге «О чем говорят президенты? Секреты первых лиц» ключевая фигура в поддержании канала с советской стороны Вячеслав Ервандович Кеворков. Читателям впервые становятся доступны подробности тайных советско-западногерманских саммитов, о которых умолчали в своих воспоминаниях их участники — канцлеры ФРГ Вилли Брандт и Гельмут Шмидт и советские дипломаты Валентин Фалин и Юлий Квицинский.
О чем говорят президенты? Секреты первых лиц - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Или вот, высказывание нашего министра иностранных дел Вилли Брандта по поводу обеих Германий: «От урегулированного соседства к сотрудничеству». Ваша же пресса квалифицирует эти высказывания как «вбивание клина между странами Варшавского пакта путем поочередного установления ФРГ дипломатических отношений с соцстранами». И ведь эту линию поддерживает и вдохновляет старейший в мире министр иностранных дел!
Обычно благожелательный и невозмутимый, почти флегматичный, с добрым, круглым и широким, как луна, лицом, хозяин дома метался в тот вечер от стола к полкам, оттуда к подоконнику, хватал вырезки, какие-то склеенные страницы, совал их нам в руки, непрестанно промокая взмокший лоб и протирая запотевшие очки.
Накипевшая боль выплескивалась не только потоком слов, но и через поры. Мы делали попытки его успокоить, но тщетно.
— Я люблю вашу страну, ваших людей, хочу помочь им, но постоянно ощущаю свое бессилие. Оставаясь один в этой комнате, я часто от отчаяния кричу, по-настоящему, в полный голос. Да так, что сам теперь начинаю верить, что здесь вовсе нет подслушивающих устройств, о которых так много говорят. Иначе сидящие в наушниках примчались бы на крик.
— Зачем кричать? Нужно ведь дело делать…
— А что я могу? Здесь я — бывший солдат вермахта, сражавшийся против Советского Союза, представитель «страны возрождающегося фашизма». Кто здесь меня слушать станет?
— А у вас по-другому?
— В Германии мне, конечно, проще, я там — представитель прессы, которую побаиваются, а значит, уважают. Я могу попросить любого политика принять меня, и он не откажет, более того, выслушает концепцию, которую я ему изложу. Если же моей репутации человека, хорошо знающего Россию, окажется недостаточно, на то есть еще мой главный редактор. Для него же визит к президенту или канцлеру страны — все равно, что звонок в дверь к соседу по квартире. Кстати, всякий раз, когда я бываю в Германии, мы часами беседуем на «русскую тему». И он тут настроен весьма прогрессивно.
В последний раз, например, мы сошлись в том, что ситуация находится в состоянии полной стагнации. Нужны новые, смелые шаги, на которые консерваторы ни у нас, ни в Советском Союзе органически не способны. И тем не менее, сдвинуть этот камень с места пора пришла.
Валерий знал, о ком идет речь: с главным редактором «Франкфуртер фрае прессе» Шмельцером он познакомился во время своего пребывания с Аджубеем в Германии.
— Как же, очень хорошо помню, — подтвердил Леднев. — Симпатичный, немного хромающий, пожилой и весьма влиятельный в Германии человек.
Мы с Валерием обменялись взглядом, полным взаимного упрека: как можно было забыть про Хайнца Лате и главного редактора его газеты Шмельцера! Как можно было забыть об их личном знакомстве!
Пребывание хрущевского зятя в Германии запомнилось немцам как событие скандально-сенсационное, хотя они и готовы были к тому, что многовековая традиция непотизма, которой славились и Рюриковичи, и Романовы, жива в России. В соответствии с нею, ближайшие родственники и свойственники государя — сыновья, шурины, зятья, племянники и братья — оказывали непомерно значительное влияние на управление страной.
Продолжили эту византийскую традицию в советское время Василий Сталин, Алексей Аджубей, Юрий Брежнев. Последнего, кстати, коротко и точно охарактеризовал в своей недавно вышедшей книге «Путь на Восток» граф Отто фон Амеронген: «Поставив подписи под документами, Юрий Брежнев тут же отправлялся в бар. От кофе он отказывался в пользу виски. В обязанность одного из его сопровождающих входило следить за тем, чтобы не подпускать его к бутылке, хоть ненадолго до обеда».
В 1968 году Аджубей, после того как закатилась звезда самого Хрущева, оставался уже не у дел, однако небольшая книжица, выпущенная вскоре после его нашумевшего визита, среди авторов которой значился и Леднев, должна была послужить своего рода визитной карточкой для продолжения его знакомства с солидными немецкими издателями и владельцами газет.
— Как же, отлично помню! Вы приезжали в Германию вместе с зятем Хрущева, Аджубеем, не так ли? — протягивал ему руку маститый немецкий журналист или телеобозреватель.
Все это в тот памятный вечер у Лате пришло нам обоим на ум как-то сразу, и мы, не сговариваясь, изложили свой план Хайнцу, не ссылаясь, конечно, ни на Брежнева, ни на Андропова.
Надо сказать, что вопрос о том, кто стоит за нами, Хайнца не интересовал вовсе. Позже он объяснил нам отсутствие любопытства своим прекрасным знанием реалий у нас в стране: без санкций с «самого верху» мы не отважились бы ни на подобный план, ни на поиск путей его реализации.
Водной речи, относящейся к середине шестидесятых годов, Громыко окрестил ФРГ «возмутительницей спокойствия». Этот ярлык мы тут же переклеили Лате. Он не счел нашу находку остроумной, но и не обиделся. С той поры во всех разговорах по телефону и беседах с глазу на глаз мы называли его только так, «возмутитель спокойствия».
Время шло, я теперь уже был готов ко встрече с Андроповым, однако от него по-прежнему сигналов не поступало.
С наступлением лета Хайнц уехал в Германию, но, судя по всему, и там не мог найти себе покоя. Не реже раза в неделю он находил предлог, чтобы позвонить мне или Ледневу. Не касаясь, естественно, заветной темы и не задавая вопросов, он умел как-то на секунду замолкнуть, и становилось ясно, что он весь в ожидании новостей из Москвы. Ничего не услышав в ответ, он осторожно клал трубку телефона на положенное ей место.
Однажды вечером Хайнц позвонил мне домой, и, по обыкновению, едва поздоровавшись, возбужденным голосом спросил:
— А ты знаешь, какие мосты наводит Бонн?
Я знал, о чем шла речь. По указанию Громыко, наша пресса произвела очередной пропагандистский залп по Западной Германии. Раздражение Москвы было вызвано тем, что ФРГ, установив дипломатические отношения с Румынией, попыталась расширить процесс дипломатического признания на все соцстраны, за что и была обвинена в попытке развалить Варшавский блок. Статьи в «Правде» и «Известиях» так и назывались: «Welche neue Politik hat Bonn ausgehaekt?», а также «Welhe Bruecken schlaegt Bonn?»
Я не стал успокаивать Хайнца, ибо и сам не мог навести порученные мне мосты самостоятельно, а Андропов по-прежнему не давал о себе знать.
Отчасти, мне было понятно его молчание: до нас ли ему? После длительных переговоров с Дубчеком СССР решил ввести войска в ЧССР. Уверен, Андропов лучше всех остальных из числа советского руководства представлял себе, что происходит: он был послом в ВНР в 1956 году, когда, понятно, не без его инициативы, туда были введены советские войска.
Увиденное и пережитое в те дни оставило тяжелый след в его сознании. Он рассказывал, что бессонные ночи, наполненные душераздирающими криками распинаемых, подобно Христу, на столбах у советского посольства в Будапеште, повергли его жену в тяжелое психическое состояние, из которого она так и не вышла до конца своих дней.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: