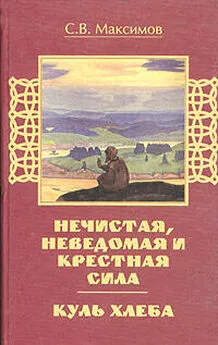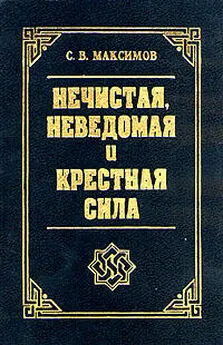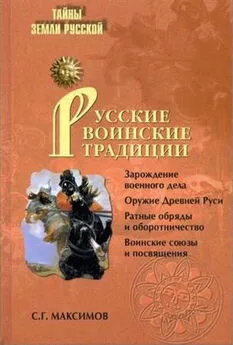Сергей Максимов - Год на севере
- Название:Год на севере
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Сев.-Зап. кн. изд-ство
- Год:1984
- Город:Архангельск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Максимов - Год на севере краткое содержание
Книга С.В. Максимова (1831-1901) «Год на Севере» открыла целую эпоху в изучении Русского Севера, стала отправной точкой в развитии интереса к научному исследованию края. Это одна из крупнейших работ по этнографии данного региона в XIX в. Сочинение имеет исключительное значение, как с научной, так и с литературной точки зрения. Яркий стиль писателя, блестящее знание местных диалектных особенностей и исторических источников делают это сочинение выдающимся произведением литературы.
Год на севере - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Любопытна, должно быть, если не прямо стреляете.
— Нет, не прямо стреляем, а лукавим. Вот слушай теперь: надо тебе прежде сказать, что нерпа лукавый зверь, особо та, которая около жила шатается. С этой то по-христиански, по-православному не сладишь. Не чутка она на нос, зато далеко берет глазом; это не морж. Заприметит человечье тело версты за две—сейчас в воду; а там лови ты ее, когда семи пядей во лбу... Бродит эта нерпа около припаев ледяных, и места-то мы эти знаем уж по своей по старой вере, по старым приметам. И то мы знаем, что человека она к себе близко не допускает. Вот тут и хитрит человек—божье рожденье, и хитрит-то он вот так. Да постой!..
— Лежит зверь на гладухе (по зимам), на коргах [11] Корга — подводная скала ила камень; риф; каменная подводная гряда.
,лудах [12] Луда — небольшой, лишенный растительности, каменистый остров.
(по летам) ... больше всего на гладухах — тороса такие ледяные по зимам живут — лежат эти нерпы. Тут мы их больше и берем. Вот нерпа лежит — вижу, оком своим вижу и себе верю, что Богу, — и лежит она не одна, а много. Из-за одной и рук марать нечего. Я сейчас на раздумье и сейчас к делу. На плечи напялю черный совик, на голову — белую шапку беспременно, за спину вскину ружье, против себя доску держу, и водой я эту доску оболью и заморожу, и по доске по этой петничек (деревянных гвоздочков) насажаю пропасть, чтобы снег держался, и поползу на коленках на льдину. Нерпа видит доску мою, ропаком, льдиной - стамухой почитает; лежит и глядит на доску на эту зорко, во все глаза. Надул, думаю; стой теперь: я еще тебе штуку подпущу, знай ты меня! И сейчас кричать, сейчас стучать, как смогу и сумею, и опять одним глазком своим накинусь на зверя. Вижу мечется он, по сторонам бросается, в прорубь сунется, опять выскочит, ухо прилаживает, прислушивается к проруби-то: не там ли, мол, шумит кто. Опять у проруби мечется, долго, круто мечется. Думаю: забрало! Пошла битка в кон!... гуляй молодец — твоя неделя. Он-то мечется! — а я ему: "ого-го" свое. Он-то пляшет да скачет, — а я свое дело правлю: ружье налаживаю, да пулей-то ему прямо в морду! — Так он и уткнется, так и продернет его всего крепкой судорогой. Ей Богу! это дело — ладное дело. На берег выйдешь, не прохохочешься. Эко, мол, ты человек — какой дикий да глупый, хуже, мол, ты самоеда нашего, право — недогадливый... Эдак-то мы по веснам больше... Тогда же и заячей ловим...
— А есть у нас, твое благородье, и такие смельчаки (про себя только боюсь тебе сказывать), что облукавливают зверя всякого: и нерпу, и тевяка и заячёй. И облукавливают они его вот как, и это труднее того, что рассказано. Доски на этот раз не берут: тут человек сам за себя отвечай, за свой ум, за все свое. Человек этот выходит на льдину весь белый, ворочается, нерпу раздразнит, расшевелит. Она свое делает, и он по ее: она в одну сторону дернет и головушкой тряхнет — и он так же: она ухом к проруби своей приложится — и он свое ухо на лед. Так и надует, так и облукавит! Зверь помечется, побесится; видит — человек, что верна, свой брат: возьмет, да и ляжет, успокоится и отворотится. Тут ей и пуля горячая!..
— Мы ведь, ваша милость, из своих из плохих винтовок на 50 сажен хватаем, и прямо в морду. И до того глупа на тот час нерпа бывает, что щелкаешь ты выстрелами одних - другие не шелохнутся! Выстрелы-то эти, надо быть, за треск торосьев почитают. Облукавленный зверь — пропащий зверь, как перед Богом!..
— По берегу-то по Канинскому теперь избы настроили, хоть и не больно часто. У иной и часовня есть, и образ есть — да ведь в наледном-то промыслу, что в этих избах? Тут вон со зверем ломаешься, хитришь, бьешь его: ум теряешь и сметку всякую, а на ту пору, глядишь, ветер оторвал твою льдину от припая, да и понес в голомя. Сгоряча-то это тебе не в примету, а очнешься — руками махнешь, крестное знамение на лоб положишь, родителей, коли есть, вспомянешь, знакомые какие на ум взбредут; сердцем опять надорвешься, глаза зажмуришь и поплывешь наудачу, куда ветер несет. На этот случай нам остров Моржовец * Скажем несколько слов о Моржовце — самом ближнем к Мезенскому берегу острове. Весь он гранитного строения с толстым пластом тундры, покрытым ягелем (оленьим мохом). Остров этот лежит к северу от Воронова носа, при выходе из Белого моря в Ледовитый океан, в 28 верстах от берега; форма его овальная, окружность около 40 верст. На нем текут две речки с пресной водой, Золотуха и Рыбная, и стоят два озера также с пресной водой. Лес не растет здесь; жилья нет, кроме смотрителя и прислуги при маяке, выстроенном между 1838 и 1841 годами, В середине прошлого столетия, когда Мезень вела заграничный торг лесом, жили на южном краю острова лоцмана по найму лесной компании. Лед показывается у берегов Моржовца обыкновенно в начале октября, бродячие же торосы в начале ноября, и тогда прекращается всякое сообщение острова с материком. В мае сообщение это опять начинается и производится обыкновенно через посредство казенных судов, имеющихся при маяке. Не принося никакой прямо положитёльной пользы, за бесплодьем и безлюдьем, остров Моржовец весною служит спасительным пристанищем для весновальщиков, которых ежегодно, и не один раз, приносит сюда на льдинах. - - -
подспорье хорошее: все больше на него попадаем. Так вот и со мной раз было дело. А то уносит в океан, так там и погибают.
— Вот оттого-то безрассуднее, бесчеловечнее наших тюленьих промыслов других больше и на свете нет...
— Это ты там как хочешь... а и на дому-то потом не больно же много напастей после смерти своей бывает.
— Да правда ли, полно, все то, что ты сказал теперь?
— Истинная, сущая. Бобыль ты человек — по тебе зато собака не взвоет. Семья у тебя есть—ну, известно, заревут бабы, шибко заревут. Опять-таки и они: поревут, поревут, — перестанут. Это уж дело такое! Нет того на свете горя, в котором бы человек утешения себе не мог получить...
— Нет! Как, брат, ты хочешь, как ты тут ни вертись, а уж если народ о человеке плачет, стало быть человек дорог, стало быть в человеке этои мир лишился товарища, а семья кормильца. Как ты себе не ворочай дальше, а промыслы ваши глупо ведутся: попусту народ теряется из-за лишнего пуда сала. У вас семга есть, навага, зверь на Кедах, на припаях лежит, добывать его в это время безопасно...
— Да ведь зверь-от лежит мелкота больше. А что ты больно смерть-то охаял? Где она тебе, сказано в писании, написана, то место ты и на кривых оглоблях не объедешь: верно так!
Почти так же рассуждают и все другие поморы, которые, как и все простые русские люди, соберутся миром на улице, в кабаке. Услышат нерадостную весть о погибели товарища, покачают головами, покрутят плечами, перекрестятся, потолкуют:
— Вишь ты, братцы, грех какой, божеское наказанье!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: