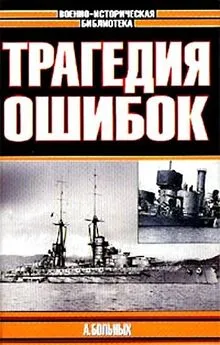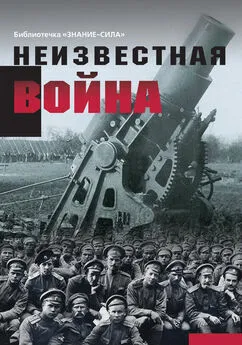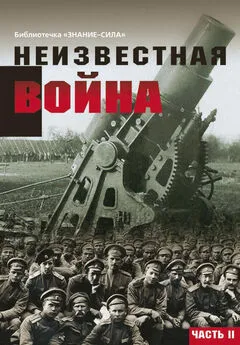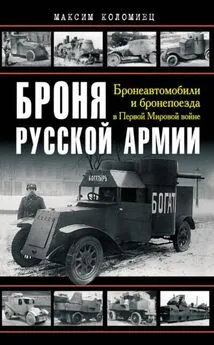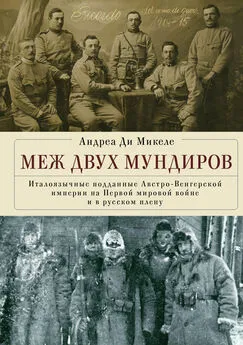Максим Оськин - Неизвестные трагедии Первой мировой. Пленные. Дезертиры. Беженцы
- Название:Неизвестные трагедии Первой мировой. Пленные. Дезертиры. Беженцы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9533-4832-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Максим Оськин - Неизвестные трагедии Первой мировой. Пленные. Дезертиры. Беженцы краткое содержание
Наиболее пострадавшими от военных действийкатегориями населения, если не считать собственно погибших и раненных на войне (так называемые «кровавые потери»), стали военнопленные, на долгие годы оторванные от Родины, и беженцы прифронтовой зоны, вынужденные покинуть родные места. Дезертиры и репатрианты дополнили общую картину бедствий. Для России эти категории насчитывали миллионы людей, и потому невозможно обойти вниманием их трагическую судьбу в 1914–1918 гг., предвосхитившую трагедии Второй мировой войны.
Неизвестные трагедии Первой мировой. Пленные. Дезертиры. Беженцы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
1941 год — это исконно крестьянская реакция на войну. Неумение командиров РККА (как следствие предвоенных репрессий), помноженное на мощь вермахта, дало массу примеров сдач в плен. Но затем, как только каждым гражданином СССР, даже недовольным жестокостью советской власти по отношению к собственному народу, было осознано, что несет с собой фашизм лично для него, война пошла совсем другая. В Первой мировой войне испытать всего этого солдатам не удалось. Поэтому «к числу других психологических ограничителей адекватного восприятия войны отнесем и исторические трудности создания „образа врага“ из жителей Центральной и Восточной Европы. К тому же война сравнительно неглубоко вошла в географическое великорусское тело страны, охватив преимущественно инонациональные районы, не воспринимавшиеся фронтом и тылом в качестве „своих“, исконных. Да и противник воевал относительно „по правилам“. Плен, к примеру, не казался позорным и смертельно страшным». [33] Дьячков В. Л., Протасов Л. Г. Война, государство, общество в российской истории XX века // Воинский подвиг защитников Отечества: традиции, преемственность, новации. Вологда, 2000, с. 96.
Те тенденции, что расцвели в фашизме в 1939–1945 гг., уже наметились в 1914–1917 гг., но вот именно что вот только наметились. При отправке в плен и конвоировании издевались даже над офицерами: не давали еды, могли ударить, отдых — в неудобных, замерзших помещениях. У пленных солдат и даже офицеров зачастую отбиралось все, вплоть до нательных крестов и одежды. В лагерях военнопленных для русских, судя по воспоминаниям участников войны, существовали такие наказания:
— битье хлыстом, плетью, палками и т. п.;
— карцер;
— сидение на корточках с поднятыми руками;
— привязывание к столбу;
— сажание на цепь;
— многочасовое в любую погоду стояние в строю;
— кандалы;
— натравливание собак;
— стояние босиком на снегу или в грязи;
— ползание по грязи, снегу или воде;
— маршировка часами на плацу как в одиночку, так и строем;
— удары штыками и прикладами.
Впрочем, есть воспоминания, что часто подобным же образом действовали и русские. Убийства при конвоировании, избиения военнопленных, отобрание их имущества, битье в лагерях и тому подобные вещи. Хотя в целом и верно замечание исследователя: «Опросные листы свидетельствуют о том, что германские и австрийские офицеры запугивали солдат русским пленом, утверждая, будто русские всех расстреливают и добивают раненых. То же самое говорилось в русской армии о немецком плене, что в отличие от предыдущего заявления подтверждалось многочисленными фактами… издевательство над русскими пленными в немецкой и австро-венгерской армиях было возведено в систему… русские войска придерживались „рыцарского кодекса“ ведения войны, в традициях которого был воспитан офицерский корпус. Отступление от кодекса считалось не только позорным, но и вредным для успеха на поле боя. Нарушители немедленно призывались к порядку». [34] Сенявская Е. С. Противники России в войнах XX века: Эволюция «образа врага» в сознании армии и общества. М., 2006, с. 67.
Но и в неприятельских армиях почти все зависело от командиров. Особенно — в австрийской армии, где, за исключением венгров, помнивших 1849 год и поэтому негативно относившихся к русским, остальным было нечего делить с Россией.
Откуда же взяться жестокости? Отдельные эксцессы есть и будут всегда, но системы здесь быть не могло. В начале войны австрийцы и русские относились к пленным достаточно хорошо. Например, 26-й пехотный Могилевский полк (7-я пехотная дивизия 5-го армейского корпуса ген. А. И. Литвинова) 13 августа освободил некоторое количество русских солдат 19-го армейского корпуса, ранее взятых австрийцами в плен. Русские войска, захватив австрийский госпиталь и этап, освободили своих пленных. Выяснилось, что эти солдаты перед боем бросили шинели и потому, чтобы они не замерзли, австрийцы выдали им теплые белые одеяла из госпиталя. [35] Кузнецов Б. И. Томашевская операция. М., 1933, с. 32.
Ожесточение нарастало в ходе войны. Так, солдатские письма сообщают домой в 1915 году: «Пленных немцы вообще не берут, а всех прикалывают… Солдаты мстят за многих добитых товарищей». [36] Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 826, оп. 1, д. 335, л. 26.
Все-таки прежде прочего это относится к немцам. Ростки фашизма всходили уже тогда, и поощрение германскими офицерами нечеловеческого отношения к противнику являлось следствием соответствующей пропаганды: смеси стремления к мировой гегемонии и шовинистической ксенофобии расистского оттенка. Глава Московского отделения Красного Креста совершенно верно писал, что главная причина жестокого обращения с пленными — это «шовинистическое одичание». «Война велась под знаком величайшей расовой ненависти и огульного взаимного озлобления… всем известные бесчисленные проявления жестокости, издевательства и истязаний, которым подвергались военнопленные и со стороны военных властей, и со стороны караульных, и со стороны обывателей, и даже со стороны врачей, несомненно, объединяются той огульной ненавистью, которая во время войны разжигалась в массах населения и обывательской молвой, и газетами, и наукой, и литературой, и даже церковью». [37] Жданов Н. Н. Русские военнопленные в мировой войне 1914–1918 гг. М., 1920, с. 38–39.
Борьба с австрийцами подобным ожесточением не отличалась, исключением являлись разве что венгры, испытывавшие особенную неприязнь к России. Но в начале войны такие случаи вытекали из установок предвоенной пропаганды. В. В. Миронов пишет: «Пленение австрийских солдат и офицеров {уже в самом начале войны} сопровождалось с их стороны болезненной реакцией, в основе которой лежал страх перед русскими военнослужащими, якобы пытавшими пленных». Командование даже предлагало офицерам брать с собой яд, чтобы не попасть в русский плен. Разумеется, постепенно стало ясно, что плен не представляет такого страшного дела. Однако распространение подобной информации вело к тем эксцессам, особенно в начале войны, когда противники добивали на поле боя раненых. [38] Человек в истории: разные лики. Тамбов, 2001, с. 83–84.
Потом начиналось мщение, и так шло до конца войны.
Недаром, по воспоминаниям бывших русских военнопленных, в Германии самое активное участие в истязаниях и унижениях принимали офицеры, в Австрии — в основном, конвоиры и караульные. Поэтому в австрийских лагерях охрану старались составлять из немцев и венгров, так как шовинистическая пропаганда объяла эти народы вплоть до женщин и детей. Правда, к 1917 году, когда все уже настолько устали от войны, что сам исход борьбы становился безразличен, в Австрии иногда пленные по ночам выходили прямо через лагерные ворота в соседние деревни, а часовые равнодушно отворачивались. «Пленные, давно жившие без женщин, искали их при каждом удобном случае. Многие ухитрялись ходить к знакомым женщинам или в небольшие замаскированные дома терпимости, которых было немало в окрестных городах. В стране ощущалась острая нехватка мужчин, мобилизованных почти поголовно, и чешки были очень благосклонны к русским и предпочитали их венгерцам и немцам, гарнизоны которых стояли в Чехии и которых чехи ненавидели». [39] Левин К. Записки из плена. М., 1936, с. 119.
Интервал:
Закладка: