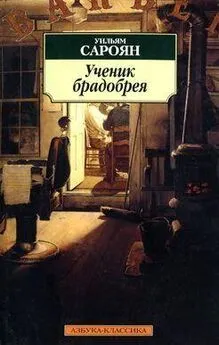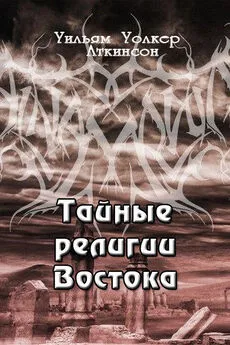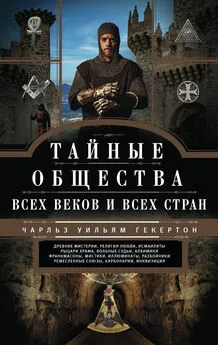Уильям Салливан - Тайны Инков
- Название:Тайны Инков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2000
- ISBN:5-7838-0400-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Уильям Салливан - Тайны Инков краткое содержание
Издательство «Вече», выпустив около 20 книг в популярной серии «Великие тайны», продолжает избранную тематику таинственного и загадочного в новой серии «Тайны древних цивилизаций», которую открывает книга «Тайны инков». В этой книге воедино сплетены увлекательная история, удивительные мифы и потрясающая тяга инков к звездам…
William Sullivan
THE SECRET OF THE INCAS.
Myth, Astronomy, and the War against Time
© Перевод. Марчук H., 1998.
Тайны Инков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Согласно Гуаману Поме, люди Первого Века жили в пещерах, боролись с дикими зверями и «блуждали затерянными в неведомой земле, ведя кочевой образ жизни». Люди Второго Века ютились в грубых круглых строениях, одевались в шкуры зверей, нарушили «девственность земли» и жили оседлыми поселениями. Люди Третьего Века размножились «подобно морскому песку», умели ткать, возводили строения, подобные тем, что строят сегодня, имели обычаи вступать в брак, жили земледелием, знали систему мер и весов, обладали общей традицией происхождения и проживали сообща в гармонии. В первые три Века война была им неведома. Четвертый Век, «аука пача руна», или «Век Воинов», начался с «внутренних конфликтов», которые быстро разрослись, придав характерный этому веку тип домов, крепостей на холмах. Воины оставили пашню и семью в прошлом; были разрушены мосты и введены человеческие жертвоприношения. Пятый Век был веком Инков. Вообще-то говоря, описание Гуаманом Помой Пяти Веков удивительным образом совпадает с археологическими находками, относящимися к последовательной смене и характеру культурных изменений в Андах.
Вторым источником, свидетельствующим о традиции Пяти Миров, был хронист Мартин де Муруа, испанский священник, чьи сочувствие аборигенам Анд и любознательность по отношению к их миру открыли ему не каждому доступную информацию.
«…начиная с сотворения мира и до сей поры сменили друг друга четыре солнца, не считая того, что светит нам сегодня. Первое погибло от воды, второе — от падения неба на земле… третье солнце, как они говорят, было погублено огнем. Четвертое — воздухом: нынешнее пятое солнце' они весьма почитают… и изобразили и символизировали его в храме Куриканча [Инкском храме Солнца в Куско] и запечатлели в своих кипу [завязанные узлами шнуры, используемые для счета и хранения записи] до 1554 года [4]».
Использование термина «солнце» как хронометрического эквивалента «мира-века» было общей для инков и ацтеков практикой, и нет необходимости подробно останавливаться на особых причинах для такого словоупотребления. Местным термином для «мира-века», используемым повсюду в Андах, было слово пача, как в примере с употреблением Гуаманом Помой аука пача руна в значении Века Воинов. Другой хронист, Хуан Сантакрус Пачакути Ямки Салькамайгуа, местный дворянин из района озера Титикака, упоминал эту же эру войны до прихода инков под названиями пурунпанча, калькпанча и татаякпанча в значениях «века варварства», «века нарушения границ» или «мрачного века».
Точное значение слова пача имеет решающее значение для понимания андской мифологической мысли. В век, подобный нашему времени, когда принято уплотнять данные, разбирать звуковые байты, обрабатывать слова и извергать информацию, мы бы, вероятно, резюмировали повествования мифа о Мировых Веках (чтобы упростить их усвоение) как истории «бедствий» и «катаклизма», ни на минуту не задерживаясь на употребляемых словах или не рассматривая, какое значение они могли бы передавать. Мы, например, не замечаем, что эти слова идут от возможных бедствий из нашего собственного мифологического наследия и что их жизнь все еще пульсирует у нас на кончике языка: «бедствие» («dis-aster») — это буквально «разделение звезд», а «катаклизм» от греческого kataklysmos означает «потоп». Поскольку в андской мифологии существовали такие же термины, которые вошли и в западные языки, то для верной передачи информации стоит быть точным в отношении их значения.
Испанские захватчики понимали слово пача в значении «мир» (mundo) или «земля» (tierra). Наиболее поверхностное описание понимания слова мир показывает, что этот термин имеет расплывчатое значение. В «Американском словаре Херитидж» английское слово мир обладает шестнадцатью разными определениями. Оно может означать планету Земля; Вселенную; определенную естественную среду, такую как «мир моря»; исторический период, вроде «Елизаветинского мира»; особую сферу, такой как «мир литературы»; средства к существованию, типа «мир бокса»; человечество в целом, как, в «мировом мнении»; и так далее. Важно поэтому отметить, что в авторитетном словаре кечуа Гонсалеса Ольгина (1608) имеется только одна запись для слова пача: «йетро suelo lugar», или «время земля место».
В то время как в западной мысли смысл слова мир передавался столь эластично, что мог означать некую «разновидность», приобретающую значение только посредством ближайшего прилагательного, кечуанское слово пача означает одну, и только одну, вещь: одновременно место и время. Если я сообщаю вам, что встречусь с вами в той же самой пача завтра, то уже из контекста нашего диалога вытекает, говорим ли мы о том же самом месте, том же самом времени или о том и другом сразу. В андском мышлении «это место» сегодня не есть то же самое «место» завтра. Пространство определяется временем, а особенности пространства составляют основу, из которой возникает время.
В английском языке мало слов, обращающихся непосредственно к тому объему человеческого опыта, называемому бытием, который можно определить как просто то, что можно ассимилировать и вынести. «Мир», в котором живем мы, современные люди, является калейдоскопичным, фрагментированным, продуктом изменчивых состояний. Мы принимаем факты, как они происходят, культивируем качество экзистенциального щегольства перед лицом будущих потрясений. Мы думаем о современной жизни так или иначе как об остром лезвии пока еще не состоявшегося будущего и живем соответствующей жизнью: в забытьи, в отчаянии, в раздражении, блуждающим огоньком.
Напротив, кечуанское слово «мир» — пача — в силу чисто лингвистических правил требует, чтобы его жители вели себя, не уклоняясь от груза истории. Поступать иначе — значит хвататься за призрачную эластичность пространства-времени, отказываться от идентичности, забывать прошлое и не оправдывать страданий и трудов тех, которые ушли прежде. Не случайно детям кечуа с четырех- или пятилетнего возраста всякий раз, когда они отправляются из дому, дают нести ношу — узелок с провизией или несколькими вещами. Эта физическая ноша, которую эти дети обязаны взваливать на плечо, предвещает более тяжкий груз культуры, какой они однажды понесут. И так как эта культурная «поклажа» в целом — язык, одежда, обычаи, мифы — есть основное средство достижения будущего в течение жизни, то каждый истинный человек несет это бремя с гордостью. Местным названием для языка кечуа является руна сими, «язык людей».
Чтобы понять слово пача, надо, следовательно, понять вечный груз непостоянства, мифическую размерность всего настоящего, крайнюю мучительность жизни, боль утраты и цену стойкости. Кечуанский термин пача, понимаемый нами в своем мифическом смысле «мира-века», является неизменной основой андской мифологии и культуры. Тем самым андская культура содержит в себе не что иное, как способность ощущения того, что она служит организующей сферой для памяти. Миф сначала ощущается, а затем уже понимается.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
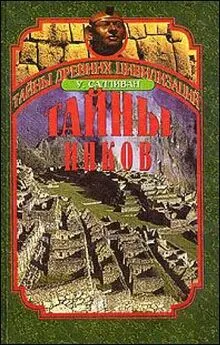

![Уильям Арден - Тайна Долины стонов [Тайна стонущей пещеры]](/books/114810/uilyam-arden-tajna-doliny-stonov-tajna-stonuchej-p.webp)
![Уильям Арден - Тайна одноглазого кота. [Секрет одноглазого кота; Тайна горбатого кота]](/books/114812/uilyam-arden-tajna-odnoglazogo-kota-sekret-odnog.webp)
![Уильям Арден - Тайна пляшущего дьявола [Тайна танцующего дьявола]](/books/114816/uilyam-arden-tajna-plyashuchego-dyavola-tajna-tancuyu.webp)
![Уильям Арден - Тайна багрового пирата. [Тайна пурпурного пирата]](/books/114818/uilyam-arden-tajna-bagrovogo-pirata-tajna-purpur.webp)