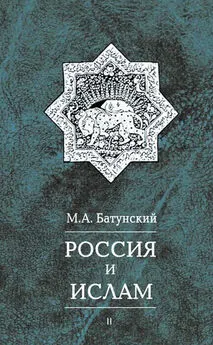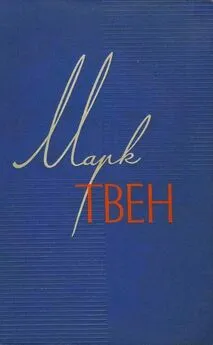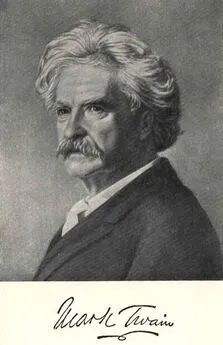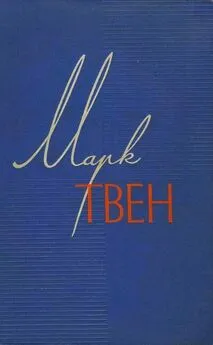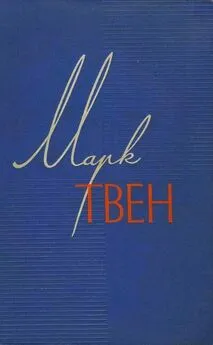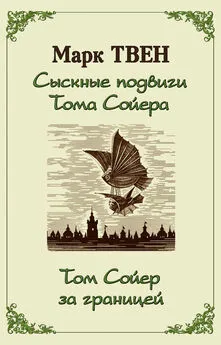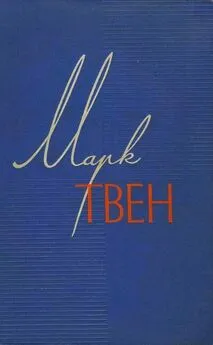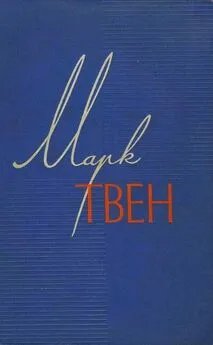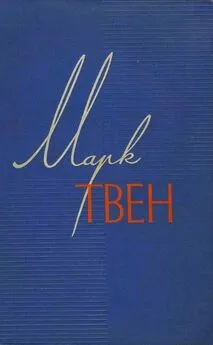Марк Батунский - Россия и ислам. Том 2
- Название:Россия и ислам. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Прогресс-Традиция»c78ecf5a-15b9-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-89826-106-0, 5-89826-189-3, 5-89826-188-5, 5-89826-187-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марк Батунский - Россия и ислам. Том 2 краткое содержание
Работа одного из крупнейших российских исламоведов профессора М. А. Батунского (1933–1997) является до сих пор единственным широкомасштабным исследованием отношения России к исламу и к мусульманским царствам с X по начало XX века, публикация которого в советских условиях была исключена.
Книга написана в историко-культурной перспективе и состоит из трех частей: «Русская средневековая культура и ислам», «Русская культура XVIII и XIX веков и исламский мир», «Формирование и динамика профессионального светского исламоведения в Российской империи».
Используя политологический, философский, религиоведческий, психологический и исторический методы, М. Батунский анализирует множество различных источников; его подход вполне может служить благодатной почвой для дальнейших исследований многонациональной России, а также дать импульс всеобщим дебатам о «конфликте цивилизаций» и столкновении (противоборстве) христианского мира и ислама.
Россия и ислам. Том 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И далее.
Как бы ни было первоначально велико жанровое и тематическое многообразие литературы (в том числе и романтической 99) о Востоке 100, преобладающим в ней становился жанр путевых записок, зарисовок, этюда, дневника, жанр, вполне отвечающий концепции разорванности мира 101. Главные приметы «дневникового повествовательного принципа» 102: краткость; сжатость; фрагментарность; отказ от риторики и необязательных принципов; фиксация мгновенных озарений мысли. Цель «идеальной модели» дневника – не подсказывать готовые решения, а ставить вопросы, создавать ощущение вездесущности новых возможностей, сеять сомнение в незыблемости существующего. На примере построенных в форме дневников описаний ряда путешествий на Восток русских авторов (зачастую – представителей романтизма) можно видеть, что изображение в них параллельных миров (скажем, русско-православного и азиато-мусульманского) с исторически различными типами развития, исторически контрастных типов сознания во многом соответствовало, а во многом – отклонялось от этой «идеальной модели», модели, в которой главным был курс на релятивизацию. Оно, это описание, подчинялось жесткой идеологизации и политизации всех тех предметов описания и анализа, которые связывались с понятием «Ислам».
Попробуем изложить суть дела, исходя из мысли М. Blanchof 103о том, что взаимоотношения людей могут быть разделены на три типа.
Первый строится по закону «одинакового»: встречаясь с «иным», непохожим человеком, мы превращаем его в подобного себе.
Второй конструируется идеей объединения, слияния «Меня» и «Другого» в нераздельное единство, т. е. то, что имманентно «идеальной модели» романтизма. Как уже отмечалось, этот курс пустил лишь слабые ростки в русской литературе о Востоке. Можно даже сказать большее: его унификаторский в первую очередь настрой оказался чуждым ведущим направлениям русской культуры XIX в., не склонным рассматривать ее в качестве транснациональной, космополитической, как очередной melting pot, и в целом, как она декларировала, предпочитавшей полифонию онтологических слоев 104, а не их нивелировку.
В 1836 г. Пушкин писал:
«Талант неволен, и его подражание не есть постыдное похищение – признак умственной скудости, но благородная надежда на свои собственные силы, надежда отыскать новые миры, стремясь по следам гения» 105.
Здесь сформулирован, как утверждают многие авторы, один из основополагающих творческих принципов самого Пушкина, и творчество, и личность которого были клубком противоречий 106, где совмещались республиканские устремления и монархизм, христианство и язычество, эгоизм и альтруизм, стоицизм и мечтательность. Этот принцип определял природу его так называемого протеизма, «всемирной отзывчивости», по определению Достоевского («…и не в одной только отзывчивости здесь дело, – уточнял Достоевский, – а в изумляющей глубине ее, в перевоплощении своего духа в дух чужих народов, перевоплощении почти совершенном, а потому и чудесном, потому что нигде, ни в каком поэте целого мира такого явления не повторялось» 107).
Первым в ряду таких пушкинских произведений Достоевский называл «Подражания Корану» – это, как полагает современный исследователь, «качественно новое жанровое образование для пушкинского творчества и вообще для русской литературы» 108.
Не касаясь ни всей темы «Пушкин и Восток» 109, ни деталей – чисто литературоведческих – истории создания «Подражаний…», сконцентрирую внимание на тех данных, которые вполне свидетельствуют в пользу моего тезиса о том, что пушкинское восприятие мусульманского (да и вообще всего восточного) мира 110(или даже лишь отдельных его представителей) не строилось ни по закону «одинакового», ни по принципу «объединения, слияния» «Меня» и «Другого» в неразделенное единство 111.
Первоначальное содержание цикла (включавшего в себя всего три произведения, темы которых переходят из одного в другое) было – при всей громадной эмоционально-экспрессивной выразительности и богатстве образных стимулов – почти лишено арабского (и вообще мусульманского) колорита. Позже, в примечаниях к циклу, заметив (или, вернее, повторив стародавний европейский антиисламский стереотип), что Коран есть «собрание новой лжи и старых басен», Пушкин добавит: «…несмотря на сие, многие нравственные истины изложены в Коране сильным и поэтическим образом» (II, 358).
Пушкин в качестве первоисточника (как мы увидим чуть ниже, не единственного) использовал сделанный с французского перевод Корана на русский язык 112.
«Слог Аль-Корана, – отмечал переводчик М. Веревкин, – везде прекрасен и текущ, паче же на местах подражательных реченьям пророческим и стихам библейским» 113.
Я специально подчеркнул слова о том, что всего более эстетическая ценность Корана обусловлена его подражанием ветхозаветной парадигме, одной из важнейших – наряду с античностью и христианством – основ европейской цивилизации 114.
Веревкин здесь отнюдь не оригинален, ибо такого рода суждения неизменно преобладали и в западном и в русском интеллектуалистском восприятии мусульманства.
Но и Пушкин «вольно или невольно» 115акцентирует это сходство (правильнее было бы сказать парафразы и повторения), отбирая те коранические тексты, которые звучат подобно книгам библейских пророков и псалмам Давида 116.
Конечно, и собственно коранические мотивы и образы привлекали внимание великого русского поэта, и в первую очередь те, которые были пронизаны «высокой нравственной проблематикой» 117(тогда как эсхатологизмом ряда сур Пушкин при их обработке совершенно пренебрегает).
Надо отметить, что обогащению пушкинского толкования и переосмыслению священной книги ислама во многом способствовал находившийся в его распоряжении с конца 1824 г. французский перевод Корана, сделанный М. Савари 118. В итоге Пушкину удалось ярче представить «обобщенно-лирический образ пророка, сквозь испытания гонения следующего стезею правды» 119. Прав Фомичев, подчеркивая «условно отстраненный характер этого лиризма», и не права Лобикова, утверждавшая, будто Пушкин «восстанавливает хронологическую последовательность глав Корана, как бы отражая историю возникновения и развития ислама» 120, и что он, в соответствии с доступными ему источниками, показал, как «за проповедью новой веры скрывались узурпаторские намерения проповедника» 121.
Пушкин в достаточной мере был ознакомлен с подобного рода утверждениями – и не только из приложенного к веревкинскому переводу Корана «Жития лжепророка Магомета» аббата Ладвоката, но и из многих других работ и русских 122и западных авторов, включая и – весьма им чтимого – Вольтера 123.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: