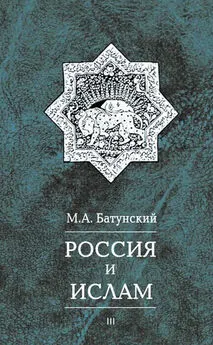Марк Батунский - Россия и ислам. Том 3
- Название:Россия и ислам. Том 3
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Прогресс-Традиция»c78ecf5a-15b9-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-89826-106-0, 5-89826-189-3, 5-89826-188-5, 5-89826-187-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марк Батунский - Россия и ислам. Том 3 краткое содержание
Работа одного из крупнейших российских исламоведов профессора М. А. Батунского (1933–1997) является до сих пор единственным широкомасштабным исследованием отношения России к исламу и к мусульманским царствам с X по начало XX века, публикация которого в советских условиях была исключена.
Книга написана в историко-культурной перспективе и состоит из трех частей: «Русская средневековая культура и ислам», «Русская культура XVIII и XIX веков и исламский мир», «Формирование и динамика профессионального светского исламоведения в Российской империи».
Используя политологический, философский, религиоведческий, психологический и исторический методы, М. Батунский анализирует множество различных источников; его подход вполне может служить благодатной почвой для дальнейших исследований многонациональной России, а также дать импульс всеобщим дебатам о «конфликте цивилизаций» и столкновении (противоборстве) христианского мира и ислама.
Россия и ислам. Том 3 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Нельзя не признать, однако, что в эпоху своего зарождения и классическая исламистика нередко приближалась к пониманию того, что в силу своих во многом уникальных (какими бы примитивными они на первый взгляд ни казались) черт ислам создал в завоеванных им странах Ближнего и Среднего Востока систему не аддитивную (конструируемую посредством простого суммирования элементов, их механического присоединения друг к другу), а органично-целостную (в которой изменения в одном каком-либо элементе немедленно сказываются и на функционировании всех остальных или, по крайней мере, некоторых 108).
Розен видит в исламе «новую, грандиозную по своей простоте и несложности религию, которая тем более пришлась по вкусу массам… что она почти везде являлась также и освободительницеи масс от тяжелого иноземного ига» 109. И хотя слова «новая религия» и «пророк» берутся Розеном в кавычки, все-таки для него не подлежит ни малейшему сомнению, что «действительно понимать какой-нибудь народ можно, только изучив по возможности всесторонне его религиозную жизнь и развитие его религиозной мысли». Розен детализирует: «чем основательнее поэтому арабист исследовал историю арабской религиозной мысли, тем полнее и глубже будет его понимание арабской народности. Сама же эта народность не потому ведь стала «исторической» и приобрела одно из почетных мест в истории культурного человечества, что ее древние богатыри в вдохновленных песнях воспевали свои разбойничьи подвиги, ни даже потому, что она, смешавшись с покоренными ею расами, создала филологическую, историческую, математическую, медицинскую, философскую литературу, не даже потому, что в известной степени служила посредницей между греческой наукой и западноевропейским миром, в то время являвшимся столь же «отсталым», каким теперь считается мир восточный… Нет, право на свое место во всемирной истории арабская народность приобрела тем, что в ее среде возникла и, впоследствии, соединенными трудами элементов, входивших в состав смешанной, говорившей и писавшей на арабском языке расы, которую мы привыкли называть просто арабской, широко развилась одна из немногих действительно мировых религий» 110.
Итак, Розен, глубоко веря в доминирующую роль религии в судьбах всего человечества, также вынужден был создать понятийную систему, которая базируется на, говоря языком современной науки, атрибутном синтезе. Он предполагает объединение двух объектов таким образом, что один из них становится свойством другого. Так все, по существу, компоненты целого ряда завоеванных арабами – и, главное, ставших исламскими – народов являют себя уже не только арабизированными, но и исламизированными, т. е. произошел синтез этих объектов с другими («арабский язык» и «ислам»). Результат соответствующего атрибутивного синтеза – «арабизированные и исламизированные ближне-и средневосточные культуры». Но мы видели, что Розен не устанавливает взаимно однозначного соответствия между понятиями «арабский язык» и «ислам»: лишь за ним, за исламом, признает он статус подлинного субстрата системы 111– «средневековая мусульманская цивилизация». И сколь бы ни была существенной для Розена мысль о необходимости поиска реальной универсальной связи всевозможных объемлемых этой системой явлений и процессов и их взаимно функциональной зависимости, тем не менее, повторяю, он в выдвигаемой им соответствующей иерархии понятий выделяет в качестве порождающей субстанции религию – ислам. Я бы счел этот методологический ход одной из манифестаций понятия «странной петли» – феномена, неизбежно возникающего там, где движение вверх (или вниз) по ступеням иерархической системы неожиданно приводит нас в ту точку, с которой мы начали 112.
А Розен начинает и кончает исламом, поскольку ислам и только ислам – «вот настоящий аттестат зрелости, если позволительно так выразиться, арабской народности, вот главный вклад ее в культурную историю человечества, вот центр, из которого исходят все лучи арабского просвещения, и фокус, в котором они в большей или меньшей степени отражаются». Он не видит поэтому для арабиста-историка задачи более серьезной и благодарнейшей, чем «исследовать условия, при которых возник ислам, следить за разрастанием мало оригинальных мыслей арабского «пророка» в пышную религиозную систему, представляющую для почти двухсот миллионов людей то, чем они живы» 113.
А коли так, то надо учесть, что хотя «нынешние мусульмане слишком мало похожи на древних арабов-язычников и нынешний ислам – слишком далек от ислама Мухаммеда», все же нельзя понять ни один этап мусульманской истории без наитщательнейшего изучения других, какими бы архаичными они теперь ни казались. Но именно здесь всего опасней впадать в супердетерминистские соблазны, абсолютизируя роль «стартового состояния» системы в ходе ее последующей эволюции, – соблазны, которым легко поддались, в частности, представители русской миссионерской исламистики. Так, Михаил Машанов утверждал, что без знания жизни арабов в домухаммедовскую эпоху «нельзя себе объяснить исторического хода ислама на первых его порах (этапах. – М.Б.), его завоевательного характера, его быстрого распространения почти по всему миру, быстрого достижения арабами-мусульманами цветущего государственного и научного состояния и столь же быстрого упадка в мрак невежества, в каком коснеют и ныне все почти мусульмане, в том числе и арабы» 114.
Розен призывает к более трезвой позиции – позиции, учитывающей прежде всего минимизацию роли «арабского элемента» в судьбах постмухаммедовского ислама и сакрализуемых им культур. Имея в виду только что приведенные слова Машанова, он пишет, что для объяснения большинства названных миссионерским автором явлений знание «состояния арабов в эпоху Мухаммеда» играет довольно незначительную роль. Напротив, «преобладающее значение имеет исследование состояния тех стран и народов, которые подчинились исламу. С того самого времени, когда ислам вышел за пределы арабского полуострова, он начал освобождаться от влияния арабского элемента, который стушевывался все более и более. Связывать же «невежество», в котором будто бы (курсив мой. – М.Б.) коснеют теперь все (у Машанова, однако, читаем: «почти все»! – М.Б.) мусульманские народы, в каком бы то ни было отношении с состоянием арабов в эпоху Мухаммеда, нет уже решительно никаких оснований» 115.
Таковы, по Розену, плоды «истинно-научного подхода» к религии, подхода, за который – с кажущимся теперь мило-наивным оптимизмом 116– ратовали на страницах «Записок» его ученики, единомышленники и последователи 117и который он, как я уже, впрочем, не раз фиксировал выше, противопоставлял – как «объективный» – явным и неявным субъективистским воззрениям, в том числе миссионерским, и прежде всего тем, которые начисто отрицали за исламом (да и вообще за любой религией) сколько-нибудь позитивные потенции 118.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: