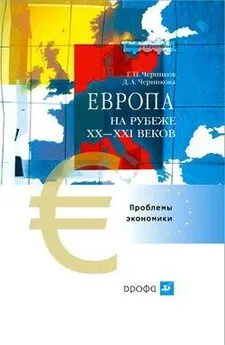Дмитрий Засосов - Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX— XX веков; Записки очевидцев
- Название:Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX— XX веков; Записки очевидцев
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02395-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Засосов - Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX— XX веков; Записки очевидцев краткое содержание
Авторы книги — юрист Д. А. Засосов и инженер-путеец В. И. Пызин — принадлежали к последнему поколению истинных петербуржцев. В их воспоминаниях о жизни, быте и нравах столичного города конца XIX — начала XX века нашел отражение взгляд на Петербург представителей демократической интеллигенции России. Авторы, одаренные наблюдательностью и чувством юмора, увлекательно рассказывают о жизни петербуржцев различных сословий предреволюционной поры.
Книгу дополняют обширные комментарии, которые содержат любопытные сведения из истории Петербурга, и многочисленные иллюстрации.
Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX— XX веков; Записки очевидцев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Перспективы обнадеживали, но городская казна была опустошена выкупом предприятий, и на значительное ее пополнение в ближайшие годы рассчитывать не приходилось. Во-первых, потому, что содержание и развитие инфраструктуры требовало колоссальных средств. Отныне это была самая большая расходная статья столичного бюджета, по ее весу в структуре расходов Петербург опережал все крупные города империи. Во-вторых, предстояло выплачивать долги петербуржцам, ибо выкуп предприятий оказался возможен лишь благодаря специальным займам. В-третьих, Городской думе никак не удавалось облегчить бремя расходов на содержание расположенных в городе правительственных учреждений. Законом они были освобождены от уплаты городу налогов на занимаемые ими здания. А ведь в стоимостном выражении они владели половиной всей столичной недвижимости. Будь они обложены оценочным сбором, как и частновладельческие имущества, — бюджет Петербурга возрос бы, в оценках 1912 г., на 18 %! Мало того, за счет города обеспечивалось квартирное довольствие огромного контингента войск и содержалась городская полиция (Енакиев Ф. 77, 78).
Побочным следствием муниципализации инфраструктурных предприятий оказалось то, что Петербург лишился источника дохода, за счет которого города обычно окупают затраты на преобразование земель, — дохода от их перепродажи по ценам, превышающим цену их выкупа у частных владельцев (Енакиев Ф. 58). Вся выручка от таких земельных операций и от сдачи в аренду принадлежавших городу строений, садов и парков, пристаней, вместо того чтобы снова быть пущенной на выкуп частных земель, пошла на «латание дыр» в бюджете. Муниципальной недвижимости становилось все меньше (Степанов А. 1993, 295–303).
Вероятно, в мирных условиях Петербург все-таки поправил бы понемногу свои хозяйственные дела. Но разразилась война, и у великого города вскоре не оказалось средств даже для нормального продовольственного снабжения.
Юношески жизнерадостная интонация, звучащая в воспоминаниях Д. А. Засосова и В. И. Пызина, вряд ли встретила бы сочувствие у властителей дум серебряного века — петербургских мыслителей, писателей, поэтов, общественных деятелей предыдущего поколения. «Мы живем на вулкане» — вот чувство, которым была охвачена культурная элита. «Кругом перебегали странные токи от жажды самоубийства до чаяния всемирного конца» (Мандельштам О. 40). Это освобождало от ответственности за сохранение ценностей текущей жизни. Привязанность к настоящему, трезвая озабоченность сиюминутными практическими делами казались этим людям нестерпимой пошлостью. «Отчужденность от жизни, презрение к „здравому смыслу“, мифотворчество, игра ума, любующегося призраками, неприятие реализма» — так охарактеризовал редактор ведущего петербургского литературно-художественного журнала «Аполлон» духовную атмосферу, которой дышали его единомышленники (Маковский С. 128). Отсюда готовность воплощать в жизнь беспочвенные идеи, политическая слепота, неспособность предвидеть реальные последствия назревавшей революции. Оглядываясь на последнюю предвоенную зиму, Анна Ахматова скажет: «Не знали мы, что скоро / В тоске предельной поглядим назад».
Д. А. Засосов и В. И. Пызин не случайно начинают книгу главой о реках и каналах. Ведь в гербе Петербурга скрещиваются с царским скипетром два якоря — речной и морской. Когда город не был еще охвачен гигантской «подковой» районов-спален, увеличивших его территорию более чем вшестеро, весь он был ближе к Неве, казавшейся тогда еще более грандиозной. Водные пространства занимали не 4 %, как ныне, а 20 % площади города, протяженность рек и каналов составляла в городской черте 135 верст (в Париже, например, всего лишь 14 верст), и вся эта необъятная водная сеть использовалась Петербургом, Россией и Европой несравненно интенсивнее, чем нынче. За 70 лет, отделивших годы работы над книгой от рубежа веков, город отошел от реки, и хозяйственная жизнь на ней замерла, оживляясь лишь по ночам. На фоне «сухопутного» Ленинграда воспоминания о речном Петербурге обладают живописной привлекательностью, в свете которой отходят на второй план раздражавшие современников эстетические издержки бурной речной жизни столицы.
В 1914 г. среди рек России Нева занимала второе место по количеству перевозимых грузов, уступая первенство Волге, и третье место по числу плотов и судов с грузом, уступая второе место Западной Двине. Вся эта армада устремлялась в Петербург, в его реки и каналы. За 1912 г. в Неву вошло 14 242 судна с грузом 276 млн. пудов и вышло 499 судов с грузом 6 млн. пудов. Первое место среди привезенных по Неве грузов занимали дрова, затем кирпич, лес, хлебные продукты, керосин. Около 130 млн. пудов грузов было доставлено в Петербург морем и около 90 млн. пудов отправлено с его морских причалов. Главные статьи ввоза морем — каменный уголь и кокс, затем хлопок-сырец, металлы и машины, химические продукты, фрукты, виноградные вина, рыба, сало, бревна, дрова, краски и столярные изделия; в вывозе преобладали хлеб и лес, масло, сало, деготь, смола, пенька и лен (ПЖ. 42, 43).
«Красивую картину представляет Нева, усеянная множеством судов из далеких и близких стран, пришедших сюда. Разноцветные флаги пестрят реку, то и дело доносятся крики матросов, в воздухе слышны французские, английские, немецкие слова. <���…> Верфи, доки, пакгаузы, мастерские полны народа, суеты, шума; визжат цепи, блоки, лебедки. То здесь, то там мелькают лодки и пассажирские небольшие пароходы. А с верхнего течения реки неустанно, одни за другими, плывут неуклюжие, неповоротливые баржи, баркасы, изредка паровые суда… Они торопятся поскорее свезти сюда, к морю, свой груз, так как времени мало, навигационный период невелик; того и гляди, река станет и дней на 150 затянется льдом» (Чериковер С. 115, 116).
Особенно оживленно выглядели набережные Васильевского острова: «Начиная от Николаевского моста, видна бесконечная перспектива русских и иностранных судов, которые тянутся до самого взморья. Целый лес мачт вырисовывается на синеве неба, теряясь мало-помалу на горизонте. Одни суда стоят на пристани и разгружаются, другие стоят посреди Невы — в ожидании очереди. <���…> В 1885 г. открыт был Морской канал из Кронштадта в Петербург, в устье Невы — на Гутуевский остров. Канал этот имеет в длину 26 верст, в ширину от 30 до 50 сажен (и в глубину более трех сажен. — А. С. ). При входе канала в Неву, у Гутуевского острова, устроена гавань, или „ковш“, как называют его местные жители, — для остановки иностранных судов. Эта гавань может вместить в себе самые большие океанские пароходы» (Бахтиаров А. 1903. 102). Гавань обеспечивала одновременную стоянку до 100 пароходов (Енакиев Ф. 71).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: