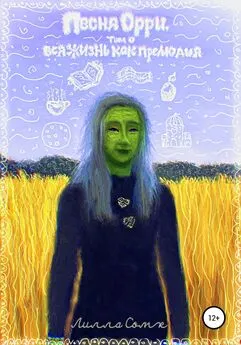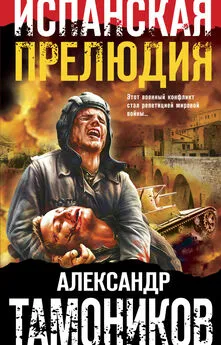А. Щербаков - 1905 год. Прелюдия катастрофы
- Название:1905 год. Прелюдия катастрофы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЗАО «ОЛМА Медиа Групп»
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:ISBN 978–5–373–04 370–0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
А. Щербаков - 1905 год. Прелюдия катастрофы краткое содержание
1905 год. Прелюдия катастрофы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Прием без экзаменов определял некоторую беззаботность при выборе специальности. Те, кто учился в 70–80 годах XX века, это понимают — тогда во многих вузах приемные экзамены являлись, по сути, фикцией. Вот и в дореволюционное время нередко, проучившись пару семестров, ребята понимали, что попали куда‑то не туда — что вообще‑то весьма способствует развитию бунтарских настроений. Если нет интереса к учебе, значит, куда более привлекает разнообразная общественная жизнь. Опять же напомним — и в советские времена кто‑то учился, кто‑то днями напролет болтался в курилке.
Конечно, активную бунтарскую позицию занимали не все. Были прагматики — трудяги. Имелся и небольшой, но очень заметный слой «белоподкладочников», тогдашней «золотой молодежи», которые от вузовской общественной жизни дистанцировались. Причем далеко не всегда это были дети богатых родителей, но те, кто стремился принадлежать к этой группе (а сейчас — не так, что ли?) Но всё‑таки их было мало.
Впрочем, сторонников активной жизненной позиции насчитывалось тоже не очень много, однако имевшихся «активистов» хватало, чтобы доставлять администрации и властям регулярную головную боль. Хотя каждый студент при поступлении давал подписку, что обязуется не участвовать в «предосудительных обществах» и прочих конфликтах — но на это все плевали.
Стоит сказать и о материальном положении студентов. Оно бывало разным, но как правило, особенно в столицах — не очень хорошим. Подработать было непросто. Студентов в Петербурге и Москве много, к тому же распространенную в наше время «работу по свободному графику» тогда не очень понимали.
Конечно, Родион Раскольников — это крайность. Но представьте приезжего молодого парня в «блестящем Петербурге» с его многочисленными соблазнами. У всех ли найдутся силы экономить? Вот именно. Гарин — Михайловский в повести «Студенты» описывает эпизод, когда трое разгильдяев элементарно не могут выйти на улицу, потому что продали старьевщику всё, включая штаны. Некоторые, впрочем, выкручивались. Профессор Н. А. Башилин писал, что в свою студенческую юность он и его приятели подхалтуривали, клепая книжки про «великого сыщика Ната Пинкертона», «похождения Рокамболя» (бесконечный цикл о приключениях великосветского мошенника) и тому подобное. В Петербурге и Москве существовало множество контор (издательствами эти заведения назвать трудно), которые тискали подобную продукцию.
Обычно студенты объединялись в землячества, которые часто являлись, так сказать, межвузовыми. Это были неофициальные структуры, но на них администрация закрывала глаза. (К примеру, в Петербурге в начале XX века большим влиянием пользовалось очень сплоченное украинское землячество.) Это способствовало общению студентов разных вузов и как следствие — распространению «самиздата». Кстати, ребята тогда были не ленивые. Один из тогдашних студентов вспоминал, что переписал от руки «Манифест коммунистической партии» Маркса и Энгельса — не такое уж маленькое произведение, заметим. Хотя никаким революционером он не был, а просто хотелось иметь собственный экземпляр, несмотря на то, что за хранение таких произведений можно было вылететь из вуза. Но вот хотелось.
Одной из форм студенческой деятельности были сходки — вузовские, факультетские, земляческие. Далеко не всегда они носили «крамольный» характер, но революционерам на таких собраниях выступать было очень удобно. Вузовское начальство и давившая на него охранка пытались эти сборища ограничивать, например, требовали присутствия представителей администрации — что давало новый повод к недовольству.
Еще одним популярным развлечением было устраивать обструкцию профессорам, вызвавшим по какой‑то причине недовольство. Кто знает, как такие вещи делаются, тот понимает, что достаточно иметь в аудитории человек двадцать активистов, которые начнут свистеть — и занятия будут сорваны.
Вообще‑то студенты были веселыми ребятами. Студенческий праздник, Татьянин день, являлся, конечно, не нынешним Днем ВДВ, но тоже шумным мероприятием со всеми последствиями, отсюда выходящими.
Стоит помянуть и об еще одной черте тогдашних студентов, которая сейчас уже полностью исчезла. Речь идет о так называемом товариществе. Конечно, нет ничего плохого в том, что ребята, к примеру, собирают деньги в помощь своему заболевшему товарищу — а ведь собирали, отдавая последнее! Но в случае «студенческих историй» действовали уже иные принципы: «Наших бьют!», «Все побежали — и я побежал». А кому хочется показаться «плохим товарищем», если тебя после этого будут «держать за чмо»? Особенно если курсистка, которая тебе нравится, рвется в бой? При создании массовых беспорядков такой средой манипулировать очень просто.
Так что понятия «студент» и «революционер» являлись чуть ли не синонимами. В романе Соболева «Капитальный ремонт» главный герой, гардемарин, совершенно верноподданный, спокойно относится к тому, что его знакомый — марскист — революционер. Дескать, это просто традиция такая, корпоративный стиль поведения.
«Пажи и правоведы должны быть фатоватыми, павлоны и николаевское кавалерийское — круглыми идиотами, гардемарины.
Морского корпуса — сдержанными и остроумными, а студенты — волосатыми и обязательно революционерами. Таков был стиль каждого учебного заведения, и студент, занимающийся революцией, казался Юрию гораздо естественнее, чем студент — белоподкладочник, раскатывающий на лихачах, как правовед, французя- щий, как лицеист, и называющий царя не царем, а его величеством, как пажи».
Так оно во многом и было, да не всегда. Чем дальше — тем большее количество ребят начинало слишком далеко заносить.
Но вернемся к Владимиру Ульянову. После студенческой истории он оказался высланным из Казани и засел без дела в поместье Кокушкино, где и начал перечитывать идола народников Чернышевского. Как впоследствии говорим сам Ленин, именно с этого‑то всё и началось.
«Политический вождь должен быть решительным и, раз поставив себе определенную цель, идти беспощадно до конца». Это не Ленин, это Чернышевский. Сам Ленин в 1904 году на вопрос одного из молодых большевиков, когда он начал интересоваться марксизмом, ответил: «Могу вам точно ответить: в начале 1889 года, в январе». В 1891 году Владимир Ульянов добился разрешения на сдачу экстерном экзаменов за университетский курс.
«15 ноября 1891 года юридическая Испытательная комиссия С. — Петербургского университета присудила В. И. Ульянову диплом первой степени, соответствующий прежней степени кандидата прав».
(В. Логинов, историк).Есть еще один миф — дескать, Ульянов никогда нигде не работал, а только занимался революцией. Но 4 января 1892 года присяжный поверенный Андрей Николаевич Хардин подал в Самарский окружной сущ рапорт о том, что «дворянин Владимир Ильич Ульянов заявил желание поступить ко мне в помощники присяжного поверенного». То есть по сегодняшнему — будущий вождь революции стал помощником адвоката. Конечно, это не вкалывать на заводе или в шахте — но нынешних адвокатов никто бездельниками не считает. Дел Ульянову хватало. Тем более, к этому времени наиболее ушлые крестьяне тоже пристрастились к сутяжничеству.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
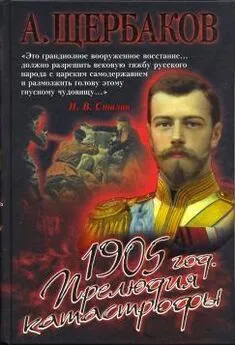
![Айзек Азимов - Прелюдия к Основанию [Прелюдия к Академии]](/books/114858/ajzek-azimov-prelyudiya-k-osnovaniyu-prelyudiya-k-akad.webp)
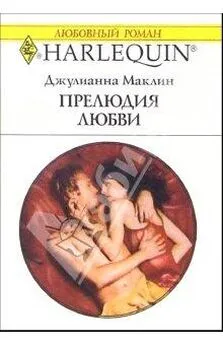


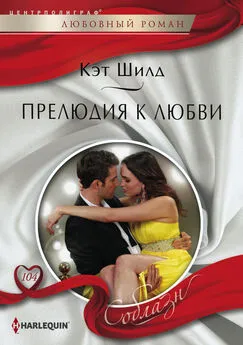
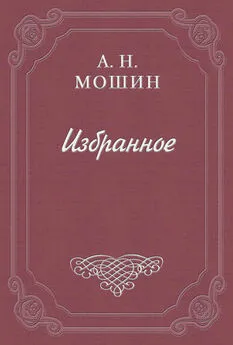

![Айзек Азимов - Прелюдия к Основанию [= Прелюдия к Академии // Prelude to Foundation]](/books/1147299/ajzek-azimov-prelyudiya-k-osnovaniyu-prelyudiya-k-ak.webp)