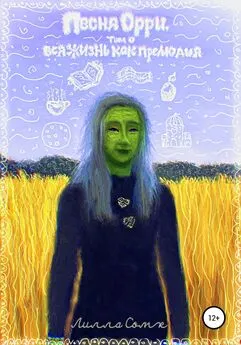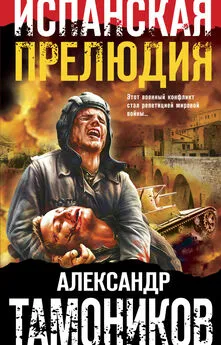А. Щербаков - 1905 год. Прелюдия катастрофы
- Название:1905 год. Прелюдия катастрофы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЗАО «ОЛМА Медиа Групп»
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:ISBN 978–5–373–04 370–0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
А. Щербаков - 1905 год. Прелюдия катастрофы краткое содержание
1905 год. Прелюдия катастрофы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Психология земцев довольно быстро менялась. Если первоначально они шли «служить народу», то потом уже собирались «вести народ». Такое, впрочем, свойственно и революционерам — но данные господа пошли дальше. Они стали считать, что именно «либеральная интеллигенция» и есть «соль земли русской». То есть, прежде всего, эти господа боролись за своиправа. О народе, конечно, тоже вспоминали. Иногда.
Тем более, к началу XX века либеральное народничество окончательно увяло, а на его смену явился западный либерализм. Этому способствовало и то, что на подмогу земцам пришли бывшие марксисты — такие, как знакомый нам Петр Струве. Главной целью либералов стало «сделать, как на Западе» — и тогда всё станет хорошо. Словом, их особенностью было то, что они мечтали реализовать некие идеальные схемы, совершенно не задумываясь — а будут ли они работать в данное время и в данном месте.
В этом смысле очень показательна бывшая марксистка Екатерина Кускова. Еще вращаясь в кругах «экономистов», она прославилась тем, что крупно проговорилась при попытке написать некий манифест российского экономизма. Напомню, что «экономисты» полагали: рабочие не должны заниматься политической борьбой, их дело — бороться за своиконкретные интересы.
Однако из текста Кусковой следовало, что дело рабочих — грудью встать за либералов. На фига? А вот так. Хотя, как мы видели, рабочих вполне устроил бы и царь — батюшка, прояви он хоть какое‑то внимание к их интересам.
Собственно, Кускова и попала в историю только потому, что ее стали увлеченно пинать такие блестящие публицисты, как Плеханов и Ленин.
Либеральные идеи начали довольно быстро распространяться среди образованной части российского общества. Причем главным способом их распространения была легальная пресса.
Газет в Российской империи выходило много и разных. Были официозные — такие, как «Правительственный вестник» и «Русский инвалид [58] Это издание возникло еще в 1815 году. В те времена «инвалидом» назывался любой солдат, отслуживший свой 25–летний срок. В конце XIX века этот термин уже не применялся, но бренд есть бренд.
». Были проправительственные — вроде «Московских ведомостей». Имелись многочисленные бульварные — например, «Московский листок» и «Копейка». И либеральные — такие, как «Русь» и «Русское слово».
О последней газете стоит сказать особо. Ее издавали отнюдь не политически озабоченные граждане, а знаменитый издатель И. Д. Сытин, являвшийся прежде всего успешным коммерсантом. Сытин что ни делал — всё было на высшем уровне. Вот и у этой газеты имелась отлично налаженная корреспондентская сеть — как в России, так и за рубежом. Недаром «Русское слово» называли «фабрикой новостей». Тираж ее в 1904 году составлял 117 тысяч экземпляров, а к 1916 году вырос уже до фантастического по дореволюционным меркам размера в 739 тысяч. Для серьезной газеты того времени — запредельный тираж.
До 19 октября 1905 года прессе в России жилось не слишком весело. Александр II отменил предварительную цензуру, но карательная цензура сохранилась, усилилась при Александре III и таковой оставалось при Николае. Причем она была очень жесткой. За нарушения газеты нещадно штрафовали, конфисковывали номера, могли и закрыть (хотя последнее случалось нечасто: газетчики знали границы дозволенного). Что же касается штрафов и конфискаций, то их очень быстро научились использовать в своих целях. Время от времени газеты выдавали что‑нибудь «нецензурное», номер конфисковывали — но, имея своих людей в типографии (а все приличные газеты располагали собственными печатными мощностями), очень легко заныкать от конфискации несколько сотен номеров. Потом эти номера продавались из‑под полы по цене, доходившей иногда до 15 рублей (обычная цена солидного издания составляла 10–15 копеек). Так что и штраф «отбивался», и, что главное — газета получала рекламу как пострадавшая за правду. А это в нашей стране всегда любили.
Но обычно журналисты действовали менее радикально, в рамках цензуры. Один из вечных способов — это подборки новостей. Тут ведь главное — какиеновости выбирать. Как известно любому журналисту, можно так подобрать совершенно достоверные факты из жизни страны или города, что происходящее будет выглядеть как филиал рая на земле. А можно наоборот, и получится: вокруг не жизнь, а ад кромешный. К примеру, «Русское слово» во времена русско — японской войны перепечатывала новости из «Таймс», от их японскихкорреспондентов. Да и погромов на страницах «Русского слова» случилось куда больше, чем в действительности. Прямого вранья не было — но ведь любую уличную драку можно описать как погром. Как рассказывал один из участников очередной забастовки: «По пути к заводоуправлению дали по морде проходившему мимо еврею» — вот тебе и «национальный конфликт».
Но самым интересным явлением, появившимся в либеральной прессе, стал жанр, получивший у акул пера термин «русская журналистика». Хотя на самом деле его стоит назвать «интеллигентской». Суть его вот в чем.
Журналист по определению оперирует фактами. Конечно, эти факты могут быть тенденциозно подобраны, перевраны и даже просто выдуманы. Но в статье они должны быть.
Либеральные публицисты зачастую обходились без фактов. Статьи представляли из себя сочинения на тему: «Что я думаю по этому поводу». Особенную популярность жанру придавало то, что с либеральной прессой часто сотрудничали известные писатели. А тогда считалось, что если писатель рассуждает «от фонаря» — так оно и надо. Он же писатель, он лучше всех знает. Тем более, из писателей лепили идолов. Взять, к примеру, самую известную историю — «отлучение» Льва Толстого. На самом‑то деле в Определении Священного синода было сказано: «Посему Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею. Ныне о сем свидетельствуем перед всею Церковью к утверждению правостоящих и вразумлению заблуждающихся, особливо же к новому вразумлению самого графа Толстого». Никакой анафемы по отношению к нему не провозглашалось, ее впоследствии выдумал либеральный писатель и журналист А. Куприн [59] Вообще‑то анафеме лично были приданы только: Григорий Отрепьев, гетман Мазепа, Степан Разин и Емельян Пугачев.
. Зато шума- то было сколько! Даже знакомый нам жандармский генерал Спиридович полагал это большой ошибкой — по его сведениям, Толстого оппозиционеры не шибко читали, а после данного Определения Синода он стал чуть ли не иконой интеллигенции, вроде академика Сахарова в «перестройку».
Разумеется, применялся и эзопов язык. Либеральная интеллигенция быстро выучилась читать между строк. А ведь между строк можно прочесть все что угодно. В семидесятые годы XX века существовал такой анекдот:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
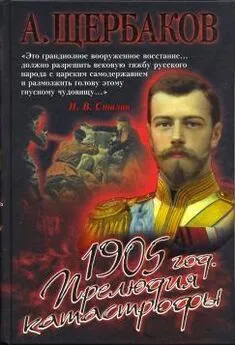
![Айзек Азимов - Прелюдия к Основанию [Прелюдия к Академии]](/books/114858/ajzek-azimov-prelyudiya-k-osnovaniyu-prelyudiya-k-akad.webp)
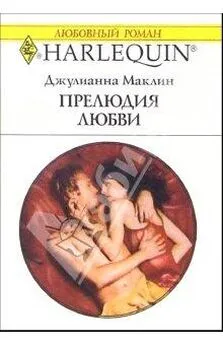


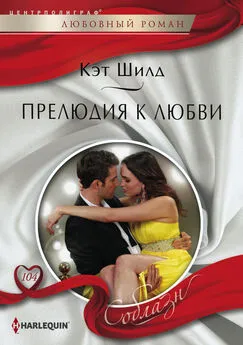
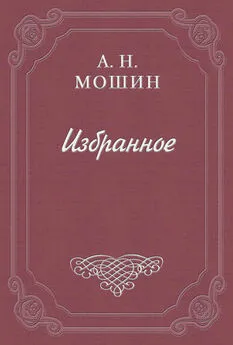

![Айзек Азимов - Прелюдия к Основанию [= Прелюдия к Академии // Prelude to Foundation]](/books/1147299/ajzek-azimov-prelyudiya-k-osnovaniyu-prelyudiya-k-ak.webp)