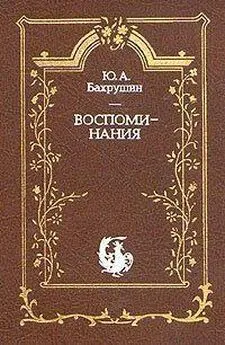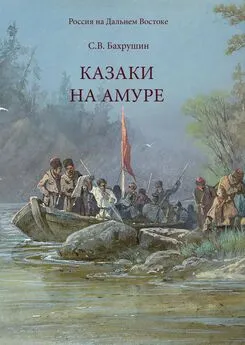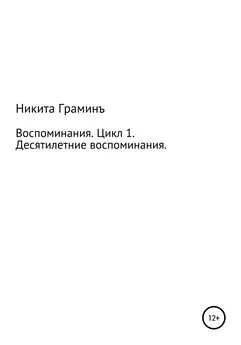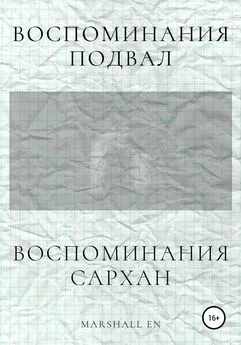Ю. Бахрушин - Воспоминания
- Название:Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1994
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ю. Бахрушин - Воспоминания краткое содержание
«Воспоминания» Ю. А. Бахрушина — это не только история детства и отрочества самого автора, но и история знаменитого купеческого рода Бахрушиных, история российского коллекционирования и создания Театрального музея. Зав. редакцией С. Князева Редактор Я. Гришкина Художественный редактор Е. Ененко Технические редакторы Л. Ковнацкая, В. Кулагина Корректоры О. Добромыслова, Л. Овчинникова
Воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На вопрос, когда Пименыч родился и кто были его родители, старик просто ответил:
— Родился я, сказывали, через шесть лет как француза из России выгнали, а мать моя была дворовая девушка!
Не у одного Пименыча остались воспоминания о былом житье-бытье Новоселок. В нескольких верстах от Енгалычевых жил сосед-помещик Абрикосов, один из любимых учеников и последователей Льва Николаевича Толстого. За год до своей смерти Толстой решил посетить Абрикосова. Путь из Ясной Поляны он проделал на лошадях. Весть о том, что у Абрикосова гостит Толстой, мигом облетела округу. Точно узнав о том, когда редкий гость поедет обратно, дядя с непокрытой головой и тетка, по древнему русскому деревенскому обычаю, встретили гениального старика, стоя на дороге у границы своего владения. Толстой остановил свою коляску и любезно пригласил их сесть в экипаж, чтобы проехать вместе с ними по их имению. У главного дома в Новоселках была сделана новая остановка. Созерцая знакомые ему с молодости строения, Лев Николаевич перенесся в прошлое и стал рассказывать, как выглядели Новоселки при Фете, какие в них произошли изменения, как текла в них жизнь. Дядя воспользовался случаем и снял Толстого с теткой в экипаже. К сожалению, погода была не солнечная и негатив получился слабый. Отпечаток этой ныне уникальной фотографии был передан мною в свое время в Театральный музей и, вероятно, где-нибудь хранится по сие время. После почти получасовой остановки Толстой продолжил свой путь. Дядя и тетка проводили его до границ Новоселок…
В дождливое время вечером дядя иногда зазывал нас с Кириллом в свой кабинет под предлогом, что ему нужно помочь в разборке какого-нибудь ящика письменного стола. Он не спеша извлекал из недр своего хранилища пожелтевшие от времени письма и документы, очаровательные старинные альбомы в переплетах из красного и зеленого марокена 3*с бронзой, тетради рисунков и отдельные наброски. На некоторых вещах он останавливался, давая свои объяснения, читая выдержки и рассказывая их историю. Как сейчас помню большую тетрадь с зарисовками отца дяди, Александра Ельпидифоровича, которые он делал в Сибири, в бытность адъютантом гр. Муравьева-Амурско-го. Живо, с большим юмором сделанные наброски изображали и самого знаменитого администратора, его окружение, ссыльных декабристов и быт тогдашней Сибири. Остались в памяти отдельные листы, а также и тетради, испещренные свободным, сильным штрихом Ореста Кипренского. Тут были и представители семьи Енгалычевых, и пианист Фильд, преподававший музыку в доме, и наброски дворовых. Были и рисунки Боровиковского. Особенно памятна мне масонская икона «Седьми духов» кисти великого художника. Среди величественного хаоса небес подобная облаку стояла фигура молодого мощного красавца Саваофа, а вокруг него, в облаках, отображались еще шесть торжественных ликов. В альбомах, наряду с наивными мадригалами конца XVIII века, встречались строфы зачинателей литературного русского языка. Естественно, что подобная разборка ящиков не только коротала непогожие вечера, но заставляла даже сожалеть об отсутствии дождливой погоды.
Подчас мы развлекались с Кириллом самостоятельно. Как-то раз вечерком он предложил мне пойти на деревню, посмотреть, как орловские пляшут. При нашем появлении в деревне Кирилл, весельчак и балагур, был немедленно окружен гулявшей после трудового дня молодежью. Он представил меня и предложил пустить москвичу пыль в глаза орловской пляской. Произошла кокетливая заминка, раздались смущенные смешки девушек. Тогда он взялся сам лично начать показ. Сделав несколько колен, он вовлек в пляску девушек. Дальше дело пошло уж как по маслу. Кирилл только время от времени выкрикивал имена знакомых девушек-танцорок. Постепенно вокруг нас собрался кружок крестьян и крестьянок. Во время плясок все поминали какую-то Марью, но ее не было среди присутствующих. Тогда Кирилл отрядил кого-то за нею. Через некоторое время явилась скромная на вид женщина лет сорока с лишним. Завидев ее, все бросили плясать и обратились к ней с просьбой показать свое искусство. Она отнекивалась — тогда к просящим присоединился и Кирилл.
— Уж право, не знаю как, ваше сиятельство, — нерешительно сказала она, — сплясать-то, конечно, можно, да только… Уж простите меня, я до дому дойду, спрошу, позволит ли мне мой хозяин.
Просьба, подкрепленная аргументом, что «молодой князь просит для гостя», была уважена. Марья прибежала обратно веселая и начала плясать… С первых же тактов плясовой она начисто вытравила все впечатление от предыдущих выступлений. В ее пляске не было никаких забористых колен, никаких особенных хитростей. Наоборот, она танцевала исключительно просто и естественно, настолько естественно, что трудно было себе представить, как она вообще могла двигаться вне танца. Пляска была ее стихия, как воздух для птицы, как вода для рыбы. В отличие от остальных танцовщиц, исполнявших свой танец с каменным лицом, она все время мимировала. Ее глаза, улыбка, внезапные повороты головы дополняли все то, что делали ноги, руки, тело. Зритель забывал ее возраст, ее трудовую крестьянскую фигуру и ловил себя на том, что непроизвольно повторял ее движения. Это делал не я один, а большинство смотревших, за исключением немногих завистливых профессионалок, внимательно и деловито следивших за каждым ее движением, в надежде перенять то, что перенять нельзя: врожденного дара природы — вдохновения художника. Марья плясала долго и неожиданно прервала танец на законченном, но не финальном движении — больше она плясать не стала, несмотря на все просьбы. Мы пошли домой, сопровождаемые гурьбой деревенской молодежи. Кругом пели, шутили, смеялись, а я все видел перед собой танцующую Марью.
Любили мы с Кириллом забраться в кладовую во флигеле и разрыть сундук его покойного деда. Тогда на свет Божий извлекались какие-то каски старика времен Николая Павловича и Александра II, его мундиры, треуголки с петушиными перьями, блестящие палаши. Все это мы, великовозрастные балбесы, напяливали на себя и устраивали своеобразный маскарад, который, надо признаться, весьма нас забавлял. Мы даже не смущались в тех случаях, когда за нами вдруг неожиданно раздавался возглас дяди: «Ну и дураки!»
На дядю вообще обижаться было нельзя. Это был один из тех очаровательных людей, которые располагают к себе с первых же слов всякого, кто с ними соприкасается, невзирая на общественное положение и образование. Он всегда был желанным гостем и своих родных, и знакомых, и крестьян, с которыми ему приходилось иметь дело по службе и имению. Человек высокой врожденной культуры, чрезвычайно отзывчивый и чуткий, он обладал исключительным даром добродушного остроумия. С ним было весело всем, и старикам, и нашим родителям, и нам, молодежи. Можно было всегда безошибочно определить, где находился дядя, по раздающемуся смеху собеседников. Это вместе с тем отнюдь не значило, что князь Иван был одним из тех влюбленных в свой дар «остроумцев», которые никогда не могут говорить серьезно или внимательно слушать других. Наоборот, его серьезные разговоры производили тем более сильное впечатление, что они исходили именно от него, человека, от которого привыкли слышать только шутки. Даже нравоучения, которые ему иногда приходилось читать нам, молодежи, никогда не производили на нас тягостного впечатления, так как он в таких случаях всегда говорил с нами безо всякого тона превосходства, как с равными, скорее советуясь, рассуждая, чем поучая, и заканчивал беседу всегда какой-либо остроумной шуткой. В Новоселках я никогда не слыхал о каких-либо недоразумениях с крестьянами, как это бывало обычно в Пчелиновке у Силиных. Оглядываясь теперь назад, прихожу к убеждению, что причиной этих стычек были не крестьяне, а Помещики, которые не понимали подчас крайне своеобразный ход мужицкой мысли.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: