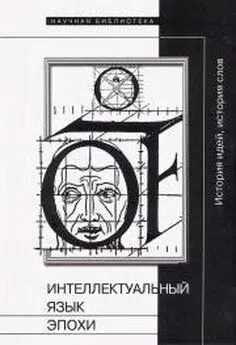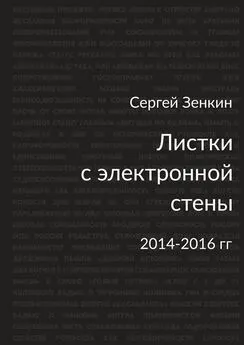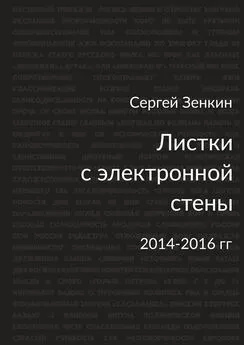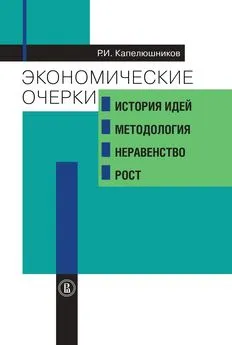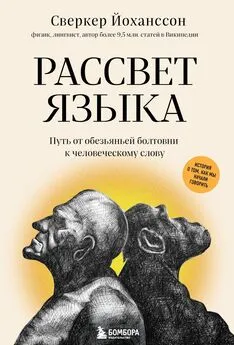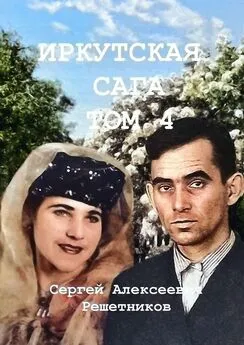Сергей Зенкин - Интеллектуальный язык эпохи: История идей, история слов
- Название:Интеллектуальный язык эпохи: История идей, история слов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86793-857-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Зенкин - Интеллектуальный язык эпохи: История идей, история слов краткое содержание
Исторический контекст любой эпохи включает в себя ее культурный словарь, реконструкцией которого общими усилиями занимаются филологи, искусствоведы, историки философии и историки идей. Попытка рассмотреть проблемы этой реконструкции была предпринята в ходе конференции «Интеллектуальный язык эпохи: История идей, история слов», устроенной Институтом высших гуманитарных исследований Российского государственного университета и издательством «Новое литературное обозрение» и состоявшейся в РГГУ 16–17 февраля 2009 года. Организаторы конференции — С. Н. Зенкин и И. Ю. Светликова. В настоящем сборнике публикуются статьи ее участников.
Интеллектуальный язык эпохи: История идей, история слов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
История этого замысла, как она запечатлелась в письмах Бодлера, равно как те разрозненные записи, заметки, выписки и вырезки из современной прессы, которые он собирал в ходе не прекращавшейся до последнего дня работы, позволяют составить определенное представление как об общей направленности незавершенного сочинения, так и о его сложных связях с фрагментами «Моего обнаженного сердца» и набросками «Фейерверков». Важно понять, что замысел книги о Бельгии складывался в этом запальчивом стремлении поквитаться со своим временем и тем образом самого себя, который был пущен временем в обиход. Бельгия была не более чем удобным предлогом, той занозой, которую сам в себя всадил Бодлер в своем бегстве из Франции. В письме к Н. Анселю, написанном 18 февраля 1866 года, он торопился предупредить, что:
«Раздетая Бельгия», принимая шутейные формы, будет во многих отношениях книгой достаточно серьезной […] цель этой сатирической книги — осмеяние всего, что люди называют прогрессом, а я — язычеством придурков, и доказательство Божьего правления. Ясно ли?
В этом же письме неприятие Бодлером своего времени принимает формы яростной диатрибы:
За исключением Шатобриана, Бальзака, Стендаля, Мериме, де Виньи, Флобера, Банвиля, Готье, Леконта де Лиля, вся современная сволочь внушает мне отвращение. Ваши академики — отвращение. Ваши либералы — отвращение. Достоинство — отвращение. Порок — отвращение, гладкий стиль — отвращение. Прогресс — отвращение. Никогда не говорите мне ничего об этих пустобрехах [408].
В тот же день в письме к Э. Дантю замысел освещался с другой стороны:
Такова Бельгия, что вошла сегодня в моду — благодаря французской глупости. Пора сказать всю правду о Бельгии, равно как и об Америке, еще одном Эльдорадо всей этой французской сволочи, — и встать на защиту истинно французского идеала [409].
Обращаясь к истории этой книги, важно понять не только то, как складывался этот замысел в рамках индивидуального творческого становления Бодлера, но и то, как он соотносится с общими тенденциями литературной эволюции середины XIX века. В противном случае эти фрагменты рискуют остаться в том виде, в котором они десятилетиями фигурировали в культурном сознании, — как плод разгоряченного неприкаянностью, нищетой и нездоровьем воображения поэта, вымещающего свою озлобленность на стране, что стала его последним пристанищем. Другими словами, представляется целесообразным взглянуть на «Раздетую Бельгию» не только в плане личной истории Бодлера, который в то время был буквально загнан в угол и выплескивал свое отчаяние, гнев и злорадство на бедных (и богатых) бельгийцев, но и в более широком контексте той реакции на прекраснодушный романтизм первой половины XIX века, что была связана с отрицанием собственно современности. Иначе говоря, в анализе последних замыслов Бодлера важно не упустить из виду сложных отношений, объединявших мысль поэта с той тенденцией французской интеллектуальной жизни XIX столетия, что выливалась в опыты радикального переосмысления всей идеологии Просвещения и принимала те или иные формы контр-современности, как определяет эту линию французской литературы А. Компаньон [410].
Именно в этом литературно-философском контексте обнаруживаются удивительные соответствия последнего замысла Бодлера и «Словаря прописных истин» Г. Флобера. Эти соответствия прослеживаются не только на уровне формулировок замысла, но и в плане формальных творческих решений, связанных с обращением к жанру словаря или, точнее, сборника плоских мыслей, банальностей, предвзятых мнений, одним словом, «общих мест» культуры и языка. При этом нельзя не отметить буквального совпадения базовой формулы жанра, к которой приходят оба писателя независимо друг от друга: и тот, и другой стремятся мыслить «фейерверками», то есть вспышками, словно бы выхватывающими из темнот бессмыслия или пустословия счастливое мгновение здравомыслия. Вместе с тем не стоит забывать, что эти «фейерверки» рождаются на скользкой грани «прописной истины», перлов массового сознания.
Парадокс жанра «прописных истин» заключается в том, что писатель, коллекционирующий «прописные истины» культуры, волей-неволей обрекает себя на испытание изъясняться не иначе как прописными истинами. Другими словами, собиратель прописных истин рискует оказаться пустословом; во всяком случае, пустословие оказывается своего рода условием возможности построения содержательного высказывания. В этом испытании пустотой язык способен подвести писателя, дать сбой, обрекая его на переливание из пустого в порожнее.
Это парадокс в отношении Флобера был в предельно жесткой форме изложен Сартром: разбирая замысел «Словаря прописных истин», философ прямо говорит об отсутствии всякой истинной мысли в сознании собирателя «прописных истин»:
Флобер никогда не мыслит: защитник «объективизма» не имеет никакой объективности; это означает, что он не соблюдает никакой реальнойдистанции между собой и миром; вследствие чего язык является в нем и вне его в навязчивой материальности. Нет, язык не теряет своей сущности, каковая в том, чтобы обозначать, но его значения остаются в словах […]. Это в некотором роде иномысль— материальность, по-обезьяньи копирующая мысль, или, если угодно, мысль, что гоняется за материей, оставаясь при этом в клетке самой материи. Язык, организуясь внутри писателя согласно логике собственных связей, крадет у Флобера мысль […] и заражает его этими псевдомыслями, каковыми являются «прописные идеи» и каковые никому не принадлежат, поскольку, согласно Гюставу, они сидят в каждом из Других […]. На этом уровне Гюстав не верит, что люди говорят: он думает, что людьми говорят… [411]
Я прерываю цитату из Сартра, поскольку ее продолжение затянуло бы нас в нескончаемую полемику относительно сартровской концепции языка, каковая в сущности своей остается радикально контр-поэтической. Тем не менее Сартр верно передает характер угрозы, подстерегающей собирателя прописных истин и общих мест. Действительно, в «Словаре прописных истин» едкая сатира на «общие места» современного французского общества представляется в поразительной смеси предельной объективности и предельной субъективности, где объект критики заключает в себе самого субъекта критики, где в драме мелкобуржуазного сознания, защищающегося от реальности языком «прописных истин», главным действующим лицом выступает не кто иной, как буржуазный писатель, завороженный властью «общих мест», где человеческая глупость не столько активно отрицается, сколько пассивно утверждается в самых материальных формах языка, каковыми являются «общие места».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: