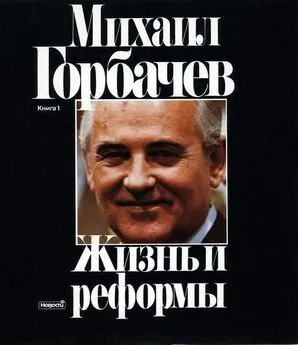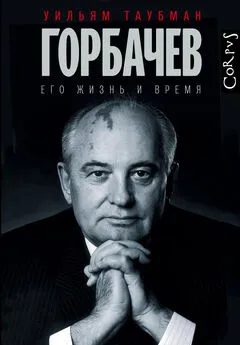Михаил Горбачев - Жизнь и реформы
- Название:Жизнь и реформы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Новости
- Год:1995
- Город:Москва
- ISBN:5-7020-0953-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Горбачев - Жизнь и реформы краткое содержание
В книге своих мемуаров последний Президент СССР рисует эмоциональную, насыщенную уникальными фактами и откровениями, яркими эпизодами и диалогами картину своего пути к вершине власти. Становятся понятными истоки политического выбора «архитектора перестройки», критически анализируется ход реформ и их влияние на развитие ситуации в стране, постперестроечные реалии которой автор оценивает как драму. Впервые в таком объеме и с такой степенью доверительности Михаил Горбачев рассказывает о своей частной жизни, о своих родных и близких ему людях.
Вторая часть книги М.С.Горбачева посвящена внешнеполитическим последствиям реформ, формированию принципиально нового типа взаимоотношений СССР с зарубежными странами, особенно с США и другими ведущими державами, а также со странами бывшего соцлагеря. Интересны анализ автора трагических событий, связанных с распадом Союза, роли в ней отдельных прежних и нынешних политических деятелей, критическая оценка семилетнего периода правления страной, нравственные уроки жизни первого и последнего Президента СССР.
Жизнь и реформы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сразу после Нового года я пригласил в Пицунду Александра Яковлева и Валерия Болдина. В дополнение к материалам рабочей группы они привезли проблемные разработки, представленные по моей просьбе академическими институтами. В маленьком домике, стоящем на берегу моря, были вновь перечитаны, обдуманы, обсуждены все положения доклада. Делались первые попытки продвинуться к новым оценкам и выводам.
Принципиальное значение имел вывод доклада о взаимосвязанности, взаимозависимости, целостности мира, оказавший огромное воздействие на нашу собственную и мировую политику. В самом деле, признав его правильность, нельзя не признать абсурдным и раскол мира на противостоящие блоки. Так, в докладе появляются записи: «Политика тотального противоборства, военной конфронтации не имеет будущего». «Не только сама ядерная война, но и подготовка к ней, то есть гонка вооружений, стремление к военному превосходству объективно не могут принести политического выигрыша никому». Выиграть «гонку вооружений, как и саму ядерную войну, уже нельзя», надо идти по пути сотрудничества «ради создания всеобъемлющей системы международной безопасности». А в таком случае и сама «задача обеспечения безопасности предстает как задача политическая, и решить ее можно лишь политическими средствами».
Преобразование общества связывалось с реализацией курса на ускорение социально-экономического развития страны, взятого на апрельском Пленуме. Речь шла не о революции, а именно о совершенствовании системы. Тогда мы верили в такую возможность. Так истосковались по свободе, что думали: дай только обществу приток кислорода — оно воспрянет. И саму свободу толковали широко, включая действительную, а не декларативную передачу земли крестьянам и фабрик рабочим, простор предпринимательству, изменение инвестиционной и структурной политики, приоритетное развитие социальной сферы. Давали себе отчет — хотя еще не слишком конкретно формулировали эту мысль — о необходимости демократизации общества и государства, развития народного самоуправления.
Прожив почти год после апрельского поворота, мы видели, что политика перестройки наталкивается на большие препятствия, а многими воспринимается как очередная кампания, которая вот-вот выдохнется. Нужно было устранить подобные сомнения, убедить людей в необходимости взятого курса. Так появилась в докладе тема гласности. «Без гласности нет и не может быть демократии». «Надо сделать гласность безотказно действующей системой. Она нужна в центре, но не менее, а, может, даже более нужна на местах, где живет и работает человек». Сейчас подобные «заклинания» воспринимаются вроде банально, но* в то время это были принципиально новые политические установки, сыгравшие огромную роль в пробуждении общественного мнения и активности. Впрочем, гласность остается не менее актуальной и теперь.
При подготовке доклада были сделаны первые попытки осмыслить роль партии в контексте перестройки общества. Появляются положения, которые получат развитие на январском Пленуме 1987 года и особенно на XIX конференции КПСС. «Партия осуществляет политическое руководство, определяет генеральную перспективу развития… Что касается путей и методов решения конкретных хозяйственных и социально-культурных вопросов, то здесь широкая свобода выбора предоставляется каждому органу управления, трудовому коллективу, хозяйственным кадрам». «Партия решительно выступает против смешения функций партийных комитетов с функциями государственных и общественных органов». Конечно, никто тогда не усматривал в подобных утверждениях призыва к политической реформе, но ведь объективно они сыграли именно такую роль.
К середине января я представил проект доклада в Политбюро и при его обсуждении впервые почувствовал, насколько сильна власть идеологических стереотипов. Даже выдвинутые мною члены руководства, которые, казалось бы, по многим качествам относились к реформаторам, были до крайности робки, когда речь шла не то что о пересмотре, а только об уточнении тех или иных теоретических формул. Тут они наперебой спешили продемонстрировать свою ортодоксальность.
Как бы не впасть в ересь, «как бы чего не вышло» — вот что было почти у всех на уме. Заявляли о поддержке нового, но у многих то и дело включались идеологические тормоза.
После обсуждения проекта доклада мы с Раисой Максимовной уехали в Завидово. Через день туда приехали Медведев, Яковлев, Бол-дин — начался завершающий этап работы над докладом. Проблематика сохранилась, а вот структура, изложение материала претерпели большие изменения. Раиса Максимовна практически все время была с нами, слушала наши дискуссии, включалась в них. Здесь оказались полезными ее опыт социологических исследований, работа с вузовской молодежью, да и просто знание быта, женская интуиция. Она нас, можно сказать, пристыдила за то, что в докладе обходилось положение семьи и женщины в обществе, подсказала, как лучше, масштабней эту тему поставить. Что говорить, всю дорогу у нас провозглашался лозунг равенства женщин, их участия в управлении страной, а на практике мы здесь уступаем не только западным, но и восточным странам. Каюсь, не было женщин в руководстве и при Горбачеве. Не видно их и при Ельцине.
Когда работа над докладом подошла к концу, мы обнаружили большой разрыв между ним и новой редакцией Программы КПСС — последняя была бледней во всех отношениях — по идеям, глубине анализа, четкости аргументации в пользу нового политического курса. Пришлось спешно готовить поправки, чтобы снять хотя бы бросающиеся в глаза расхождения между двумя документами. Эти поправки было предложено внести на заседании Программной комиссии 17 февраля 1986 года. И уже на следующий день Пленум ЦК утвердил Политический доклад, проекты новой редакции Программы и Устава КПСС, а также доклад об основных направлениях экономического и социального развития СССР на предстоящие годы.
Дату открытия съезда (25 февраля) выбрали случайно, но — своеобразная символика! — она совпала с 30-летней годовщиной XX съезда. Политический доклад, как мне показалось, делегаты приняли хорошо, а вот в дискуссии преобладала инерция прошлого. Делегаты «с мест», включая выступивших вначале Кунаева и Щербицкого, сбивались на мелочные самоотчеты. Не обошлось без славословий в честь генсека, хотя, казалось, время их ушло безвозвратно. Когда этот мотив зазвучал в выступлениях Льва Кулиджанова и Эдуарда Шеварднадзе, я вклинился в прения, попросил «снизить патетику» и «перестать склонять Михаила Сергеевича». Реакция съезда была неожиданной. Казалось бы, сущий пустяк, но он как раз высветил общий настрой людей: раздался дружный смех делегатов и гром аплодисментов. Дискуссия начала приобретать более содержательный характер и в целом несла печать начавшегося перехода от одного состояния общества к другому.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: