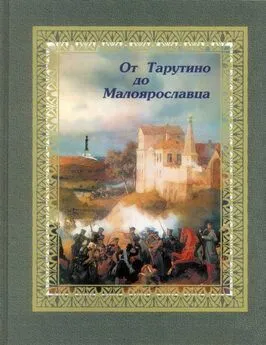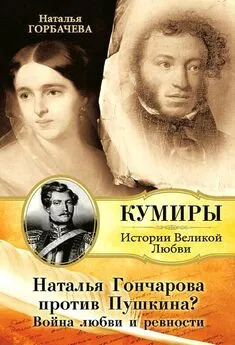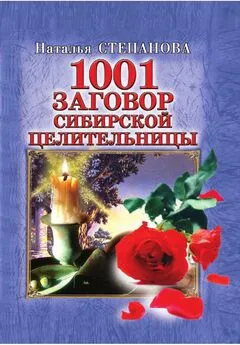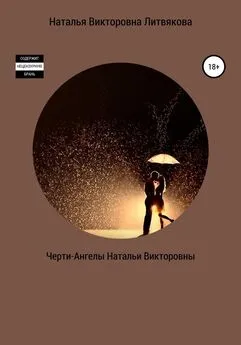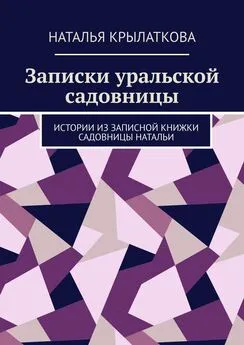Наталья Котлякова - От Тарутино до Малоярославца
- Название:От Тарутино до Малоярославца
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Золотая аллея
- Год:2002
- Город:Калуга
- ISBN:5–7111–0343–1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Котлякова - От Тарутино до Малоярославца краткое содержание
Книга издается к 190-летию исторической победы россиян над «Великой Армией» Наполеона.
Впервые системно и всесторонне показана роль Малоярославецкого сражения 12 октября 1812 года как битвы, спасшей Отечество и предопределившей коренной перелом в ходе войны в пользу России.
Книга составлена сотрудниками Малоярославецкого военно-исторического музея 1812 года.
Издание — плод многолетней исследовательской работы ученых страны: историков, краеведов, археографов, искусствоведов, специалистов по военной истории.
В книге использованы иллюстрации из Фондов Малоярославецкого военно-исторического музея 1812 года. Многие материалы публикуются впервые.
Для широкого круга читателей.
Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года открыт для посетителей все дни, кроме понедельника и последней пятницы каждого месяца с 10.00 до 18.00 часов.
249090 Калужская область, г. Малоярославец, ул. Московская, 27. Тел/факс: (08431) 2-27-11.
В оформлении использованы картина П. Хесса. «Бой под Малоярославцем.» рисунок В. Типикина. «Офицер и нижний чин Рязанского пехотного полка.»
От Тарутино до Малоярославца - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В своем предписании Кутузов предлагал производить продовольствование по расценкам, не соответствующим циркулярному предписанию Вязмитинова от 29 августа. Но учитывая то, что Калужская губерния с 28 августа была на военном положении и приказы Кутузова приравнивались к высочайшему повелению, военнопленные в Калуге до появления циркулярного предписания от 29 октября 1812 г. (о неукоснительном соблюдении предписания от 29 августа и выплате нижним чинам испанской нации по 15 коп. в сутки) получали порционные деньги, установленные главнокомандующим армиями.
После оставления французами Калужской губернии гражданский губернатор, во исполнение предписания Кутузова от 14 октября и с целью упорядочить снабжение и содержание находившихся в городе военнопленных, выделил специального чиновника в лице заседателя Палаты гражданского суда Н. Н. Михайлова. С этого времени начался новый этап существования пленных в Калуге.
Ордером от 18 октября 1812 г. губернатор довел до сведения Михайлова его обязанности по военнопленной части. По вновь установленной в городе системе содержания военнопленных Дума должна была заботиться о ежедневной выдаче нижним чинам продовольствия (по 3 фунта хлеба на человека), а Михайлову предписывалось снабжать пленных кормовыми деньгами, наблюдать за теплом в отведенных военнопленным квартирах и докладывать о лицах, нуждающихся в одежде и обуви. Каверин также предлагал Михайлову следить за тем, «…чтобы ежедневно пленные все им назначенное получали без недостатка» [326]. 19 октября губернатор новым ордером расширил функции чиновника по военнопленной части, предписав ему самостоятельно заниматься обмундированием пленных. Для этого Михайлов должен был требовать от Думы необходимое количество вещей и давать ей расписки в получении одежды и обуви для последующей оплаты [327].
Выполняя около двух месяцев возложенные на него функции по военнопленной части, Михайлов старался наладить снабжение и содержание пленных в соответствии с выдвигаемыми на государственном уровне требованиями и прилагал усилия для ликвидации имевших место беспорядков и злоупотреблений со стороны органов, ответственных за военнопленных: Ордонанс-гауза, полиции, Думы. Нестабильность военного времени и трение в самой системе содержания пленных в Калуге постоянно возвращали его к решению одних и тех же вопросов. Несмотря на это, Михайлову удалось привлечь внимание губернской администрации к проблемам военнопленных и успешно решить задачи, связанные с размещением, обмундированием, продовольствованием и медицинским обеспечением [328].
Благодаря усилиям Михайлова, неоднократно обращавшегося к вице-губернатору с просьбой наладить медицинское обслуживание военнопленных, в 20-х числах ноября их стали принимать в Калужском военно-временном госпитале [329]. Однако, положение пленных от этого не облегчилось. Сведения об их смертности сохранились в двух, дошедших до нас, рапортах, направленных из госпиталя губернатору. В одном, от 28 ноября, показано, что накануне, 27 числа, в госпитале состояло 440 больных военнопленных, из которых к 28 ноября умерло 35 человек. В другом рапорте говорится, что 6 декабря в госпитале было 300 пленных, а к 7 числу их количество уменьшилось до 279 [330]. Следовательно, при большом скоплении военнопленных смертность среди них за сутки достигала примерно 7 %.
О тяжелом положении больных пленных в Калужском госпитале сохранились свидетельства лейтенанта 6-го вестфальского линейного полка И. Ваксмута, который находился в Калуге с 19 октября 1812 г. до июля 1813 г. Так, например, в своих воспоминаниях он описал случай, произошедший с его соседом, гвардейским капитаном, голландцем Ван дер Хефтом. Последний в отчаянье решил покончить жизнь самоубийством и начал бить себя тяжелым оловянным стаканом по голове и груди. «Но, — пишет Ваксмут, — так как ему не удавалось таким образом покончить с собой, то он приподнялся на колени. „Куда вы?“ — спросил я его. „К черту, в пекло!“ — ответил он. „Еще успеете, — успокаивал я его. — Подождите, пока смерть придет“. „Нет! Я хочу к мертвецам!“ — настаивал он. И в то время как он так стоял на своем соломенном тюфяке, опираясь на локти и колена, верхняя часть тела перетянула, и он упал ничком на землю. Мы позвали дежурных дядек, и они снова уложили его в постель. Он при падении разбил себе переносицу, и у него сильно текла кровь. К нему подошел аптекарский служитель, в черном фартуке, именовавший себя лекарем и, пробормотав несколько слов, снова ушел, однако через короткое время вернулся, неся огромный пластырь, который прилепил на лицо голландцу, залепив ему при этом рот и нос, так что тот через несколько минут задохся» [331].
Круг обязанностей, лежавших на плечах Михайлова, делал должность чиновника по военнопленной части сложной в исполнении, трудоемкой и ответственной. В конце ноября к нему в помощь был прикомандирован титулярный советник Е. Д. Молотков, фамилия которого первый раз упоминается в документе от 29 числа [332]. Напряженная деятельность подорвала силы Михайлова, и 2 декабря он рапортовал Каверину, что по болезни не в состоянии исправлять должность по военнопленной части. Однако ему пришлось еще неделю оставаться на службе. Только 9 декабря губернатор направил ордер Молоткову, вменив ему в обязанность исполнять вместо заболевшего Михайлова функции по военнопленной части.
На долю Молоткова выпал один из самых трагических периодов в истории пребывания военнопленных Великой армии в России, когда огромное количество взятых наступавшими русскими войсками пленных в суровых условиях зимы следовали в дальние губернии России.
3 ноября из Главной квартиры в Калугу была отправлена партия под надзором поручика Литовского уланского полка Ламберта. Именно ее, вероятно, видел выехавший 25 ноября из Мещовска в Рославль Д. М. Волконский. В своем дневнике он записал: «Встретил я пленных французов и разных с ними народов, оне в гибельном положении, их ставят на биваках без одежды и даже почти без пищи, то их множество по дороге умирает, даже говорят, в отчаянии они людей умирающих едят. Жалкое сие зрелище имел я проездом в ночь, они сидели при огнях, мороз же был свежее 20-ти градусов, без содрогания сего видеть неможно» [333].
Партия Ламберта прибыла к Калуге 6 декабря и была размещена в селе Спасском Перемышльского уезда и в деревне Желыбино Калужского уезда, так как среди пленных оказалось много больных «гнилой горячкой» (тифом). Из отправленных в Калугу 2 штаб — и 20 обер-офицеров, 2310 нижних чинов и 6 женщин до окрестностей города, по свидетельству Ламберта, добрались только офицеры и 500 рядовых. В составленной 13 ноября Молотковым ведомости числилось 415 пленных, из которых 161 человек оказался болен. 21 декабря в Калугу, для подготовки к дальнейшему следованию, было отправлено 310 нижних чинов. Из этого числа 86 человек разместили в госпитале. Таким образом, в окрестностях города осталось 105 зараженных «прилипчивыми» болезнями пленных, которые были, фактически, оставлены на произвол судьбы. 10 февраля 1813 г. Перемышльский земский суд уведомлял своего уездного предводителя дворянства, что в селе Спасском из партии Ламберта умерло 96 человек [334]. Из прибывших в Калугу пленных, после снабжения их одеждой, в дальние губернии были отправлены лишь 2 штаб — и 18 обер-офицеров, 226 нижних чинов и 3 женщины. Офицеры почти в полном составе (91 %) продолжили свое движение в глубь страны. Что же касается нижних чинов и женщин, то лишь 9,9 % от общего числа в 2316 человек смогли покинуть Калугу [335].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: