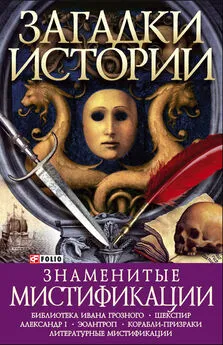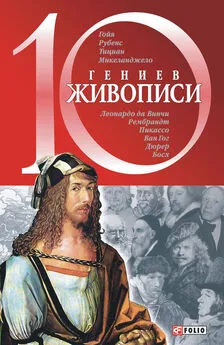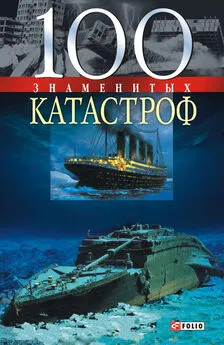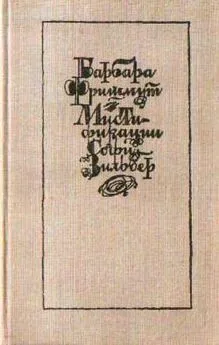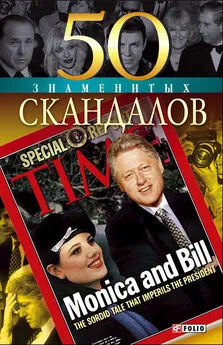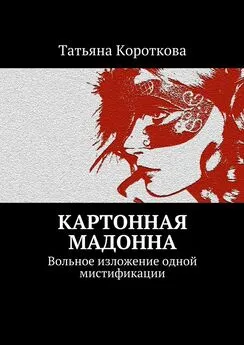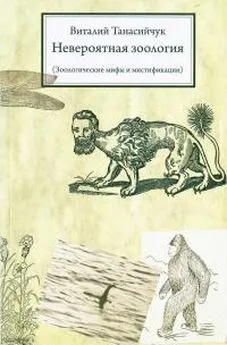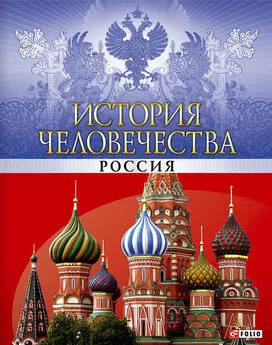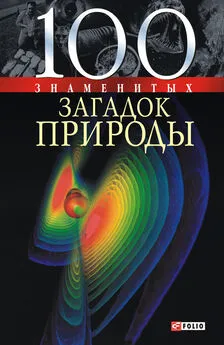Оксана Балазанова - Знаменитые мистификации
- Название:Знаменитые мистификации
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Фолио»3ae616f4-1380-11e2-86b3-b737ee03444a
- Год:неизвестен
- ISBN:978-966-03-4244-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Оксана Балазанова - Знаменитые мистификации краткое содержание
Мистификации всегда привлекали и будут привлекать к себе интерес ученых, историков и простых обывателей. Иногда тайное становится явным, и тогда загадка или казавшееся великим открытие становится просто обманом, так, как это было, например, с «пилтдаунским человеком», считавшимся некоторое время промежуточным звеном в эволюционной цепочке, или же с многочисленными и нередко очень талантливыми литературными мистификациями. Но нередко все попытки дать однозначный ответ так и остаются безуспешными. Существовала ли, например, библиотека Ивана Грозного из тысяч бесценных фолиантов? Кто на самом деле был автором бессмертных пьес Уильяма Шекспира – собственно человек по имени Уильям Шекспир или кто-то другой? Какова судьба российского императора Александра I? Действительно ли он скончался, как гласит официальная версия, в 1825 году в Таганроге, или же он, инсценировав собственную смерть, попытался скрыться от мирской суеты? Об этих и других знаменитых мистификациях, о версиях, предположениях и реальных фактах читатель узнает из этой книги.
Знаменитые мистификации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Суд своим решением признал их подделкой и вынес приговор о том, что это «непристойное издание». Однако из-за слишком вольной трактовки слова «непристойный» в ноябре 1937 года приговор был отменен апелляционной инстанцией. При этом апелляционный суд возложил судебные издержки обоих процессов на ответчика, а в заключительной речи судьи был подтверджен сфабрикованный характер «Протоколов».
Так кто же все-таки является непосредственным автором «Протоколов сионских мудрецов»? Теперь уже совершенно ясно, что здесь не обошлось без Рачковского, и очень похоже, что Нилус, несмотря на его «заслугу» в распространении сего «труда», добросовестно заблуждался по поводу его подлинности. Но кто же все-таки изготовитель?
По сообщениям прессы, в 1999 году петербургским историком М. П. Лепехиным были обнаружены доказательства авторства «Протоколов». Согласно выводам Лепехина, их действительно изготовил русский журналист Матвей Головинский (1865–1920), сотрудничавший с царской охранкой, затем уехавший во Францию и работавший в Париже в газете «Фигаро» вместе с Шарлем Жоли. По версии Лепехина, в начале 1902 года Шарль Жоли побывал как корреспондент «Фигаро» в Санкт-Петербурге, а 7 (20) апреля того же года в газете «Новое время» появилась статья М. О. Меньшикова «Заговоры против человечества», где впервые упоминаются «Протоколы» (автор статьи был настроен к ним скептически и назвал распространителей «Протоколов» «людьми с повышенной температурой мозга»).
Остается надеяться, что все эти исследования оборвут наконец победное шествие этой грязной мистификации по планете.
«Краледворская рукопись»
К счастью, не все фальсификации из политических соображений имеют такую мрачную историю. Некоторые имеют настолько благообразный вид и цивилизованные идеи, что даже после приведения доказательств о подделке не хочется отказывать ей в подлинности. Так вышло, например, со знаменитой «Краледворской рукописью».
В истории всех почти без исключения народов встречаются периоды, когда в поисках национального самоутверждения они оглядываются в прошлое, выискивая следы былого величия или подтверждения справедливости каких-то нынешних своих притязаний. «Есть такой неизвестно на чем основанный взгляд, будто чем древнее история народа, тем это для него почетней, – заметил писатель и историк Александр Монгайт. – Хотя, казалось бы, не опровергнуто и другое утверждение: чем позже выступил данный народ на исторической арене и чем в более короткое время он достиг высот цивилизации, тем больше ему чести и славы».
Изданная в 1819 году в Чехии небольшая книжечка под названием «Краледворская рукопись» по-настоящему потрясла всю нацию. В ней были опубликованы несколько лирических стихотворений на старочешском языке и восемь эпических сказаний о подвигах героев, чьи имена известны по отрывочным сведениям старых хроник. Обнародовал рукопись тридцатишестилетний филолог Вацлав Ганка.
Древние пергаменты с текстом, вошедшим в книгу, были обнаружены в сентябре 1817 года в подвале одного из домов в городе Двор Кралове, где гостил Ганка. За шкафом с церковной утварью у стены стояли дротики и небольшие копья. Ганка раздвинул их и увидел под ними какие-то листки.
Впоследствии Ганка рассказывал, что принял их за оборванные страницы старого латинского молитвенника. Но в помещении стоял полумрак, и трудно было точно определить, что это такое. Только когда Ганка вынес пергамент на свет и вгляделся в текст, он подумал, что это древнечешский язык.
Это было поистине чудом. Правда, оказалось, что это не единая целая рукопись, а какие-то ее части: двенадцать разрозненных пергаментных листков небольшого формата и два узких обрезанных лоскутка, исписанных, как вскоре подтвердится, старинными чешскими буквами.
«Это собрание лирико-эпических нерифмованных национальных песен, превосходящее по своим достоинствам все доселе найденные древние стихотворения, но от которых осталось только двенадцать листиков и два узких лоскутка, – писал Н. Добровский, один из основателей славяноведения, член Российской Академии наук, человек, сыгравший очень заметную роль в истории «Краледворской рукописи». – Судя по письму, они относятся к 1290–1310 годам. Некоторые стихотворения еще древнее. Все собрание состояло из трех книг, как можно с достоверностью заключить из надписей над оставшимися главами третьей книги, где названы главы 26, 27 и 28. Первая книга могла быть посвящена рифмованным песням духовного содержания, вторая – более длинным стихотворениям, а вся третья – более коротким нерифмованным народным песням. Если каждая из недостающих 25 глав состояла лишь из двух стихотворений, то только из третьей книги не дошло до нас пятьдесят стихотворений… Объяснение темных или совершенно непонятных слов предоставляем мы издателю, а сами заметим только, что здесь встречаются отдельные слова, которые нельзя найти в старинных чешских памятниках».
Подобное открытие представляло законный повод для гордости. «Краледворская рукопись» свидетельствовала о том, что чешский народ имеет богатую и славную историю и литературную традицию. Теперь, если чехи и не утерли нос кичливым немцам с их «Песней о Нибелунгах», то, по крайней мере, могли на равных говорить с ними о героическом прошлом, зафиксированном в письменном виде еще в далеком XIII веке.
В 1819 году в Праге увидело свет отдельное издание «Краледворской рукописи». Текст эпических поэм и лирических песен XIII–XIV столетий был напечатан по-чешски с объяснением непонятных слов и предисловием, а также немецким переводом, сделанным В. Свободой, начинающим поэтом и другом Ганки, и предисловием на немецком языке.
После этого по всей Чехии с гордостью рассказывали о сенсационной находке – об открытии «чешских Нибелунгов». Таким образом, археологическая романтика, казалось бы, обрела твердую почву фактов. «Краледворская рукопись» свидетельствовала о высоком поэтическом развитии, которого достигли чехи в старину, и являлась историческим памятником их борьбы за независимость.
Возникал, однако, естественный вопрос – был ли автор у этих песен? И если был, то один или несколько? В своем предисловии Ганка попытался ответить на этот вопрос. Сделать это, по его словам, конечно, не просто: «Кто нам теперь поведает имена поэтов? Как было имя составившего с таким вкусом этот сборник?» Тем не менее ему кажется, что рукопись принадлежала известному в истории рыцарю Завишу из Фалькенштейна. Ведь песни слагали не только простолюдины, но и вельможи, когда их «меч и шлем отдыхали в углу».
Находка «Краледворской рукописи» положила начало восхождению Ганки по ступеням славы, имя его становится все более известным. Сам он, по замечанию некоторых современников, был неравнодушен к успеху. Преисполнившись мечтой о возрождении гения своего народа, горячо поддерживал идею о создании Национального музея, где были бы собраны памятники чешской старины. Мысль была не нова, но Ганка стал активно воплощать ее в жизнь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: