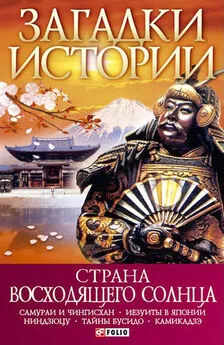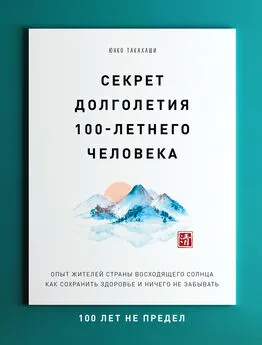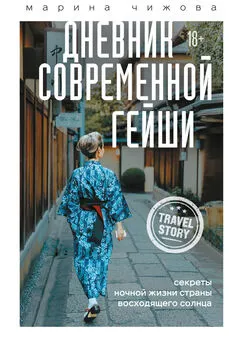Денис Журавлев - Страна восходящего солнца
- Название:Страна восходящего солнца
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ФОЛИО
- Год:2008
- Город:Харьков
- ISBN:978-966-03-3881-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Денис Журавлев - Страна восходящего солнца краткое содержание
Япония… Пожалуй, нет другой такой страны, которая в течение веков остается загадкой для всего мира. О самураях, ниндзя, камикадзэ написаны тысячи книг, снято множество кинолент, и хотя их герои давно сошли с исторической сцены, до сих пор не все их тайны раскрыты. Нет также однозначных и рациональных ответов на вопросы: почему непобедимые монголы так и не смогли завоевать Японию в XIII столетии и почему она не стала католической страной три века спустя?
Разгадывая тайны прошлого, вы узнаете много интересного об этой удивительной экзотической стране, но главное, сможете попробовать самостоятельно найти отгадки на вопросы, будоражащие умы современных японцев и людей, казалось бы, далеких от Страны восходящего солнца.
Страна восходящего солнца - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Суть этой истории, прочно вошедшей в самурайскую мифологию, заключается в следующем: ранней весной 1184 года войска Тайра были разбиты Минамото Ёсицунэ в битве у крепости Ити-но-тани и бежали морем на Сикоку. Лодок не хватало, и многие вельможи пытались добраться до них вплавь. Среди них был и семнадцатилетний Тайра Ацумори, которого военные повести и драмы изображают как почти идеального самурая – храброго и в то же время утонченного (в ночь перед битвой он вдохновенно играл на флейте и пел). Скорее всего, Ацумори спасся бы, ведь он уже проплыл верхом половину расстояния до ближайшего корабля Тайра, но его окликнул один из военачальников Минамото, Кумагаэ Наодзанэ, вызывая на бой. Ацумори, ставя честь выше жизни, повернул коня и быстро проиграл схватку более взрослому, опытному и сильному врагу. Кумагаэ, сбив юного вельможу с коня на землю, только теперь увидел, что перед ним – практически мальчик, за поясом которого была флейта. Конечно, жалость пронзила сердце старого воина, который к тому же перед этим получил известие о ранении собственного семнадцатилетнего сына при атаке на крепость Тайра. В страшной борьбе между долгом и человеческими чувствами (частый сюжетообразующий мотив японской литературы, да и не только японской) Кумагаэ склонялся к тому, чтобы отпустить раненого пленника, но этому помешали приближающиеся самураи Минамото, которые могли принести Ацумори лишь смерть, а Кумагаэ – несмываемый позор, если бы тот попытался отпустить врага. И Кумагаэ, «обливаясь слезами», добивал своего противника. Но эмоциональное потрясение не прошло даром – ветеран многих битв осознал греховность и суетность бытия в миру и уволился со службы, постригшись в монахи, чтобы молиться за удачное перерождение души убитого им Ацумори.
Пьеса Дзэами «Ацумори», сюжет которой построен вокруг встречи раскаявшегося Наодзанэ с духом Ацумори, добавляет эпизоду светлых, хотя и несколько меланхолических красок: «Известно же – одна молитва снимает тяжесть многих прегрешений. А я без устали взываю к Будде. Так может ли не отступить возмездье пред силой очистительных молитв? И прегрешения, пред тяжестью которых ничтожно малым кажется и море, даже и они бесследно исчезают, и пред нами открыт к спасенью путь, и в этом грядущего залог. Врагами были мы, но ныне – под сенью Высшего закона – мы друзья… И коль врагу ты воздаешь добром, за упокой души моей молитвы возносишь Будде, будем рождены в едином лотосе в грядущем мы [имеется в виду воплощение в «Чистой земле». – Д. Ж. ]. Не враг ты мне теперь». Добавим, что катарсис здесь обоюдный – Кумагаэ очищается от греха убийства и душевных терзаний, а прощающий его Ацумори – от привязанности (из-за ненависти к убившему его) к этому бренному миру. Конечно, наш короткий пересказ не в силах передать весь эмоциональный накал и трагизм, который ближе к концу этой по-своему странной самурайской истории перерастает в просветленную тихую печаль.
Впрочем, поэтому-то амидаизм и не мог стать повседневной религией самураев, что был достаточно категоричен и требовал «чрезмерности» – в том числе в отношении к смерти и убийству. Кстати, что-то подобное в это же время на другом конце земного шара происходило с христианством, начавшем свой исторический путь с отрицания идеи вооруженного насилия, но затем фактически оправдавшего таковое (если рыцарь до XI века должен был все же очищаться после убийства, то начиная с эпохи крестовых походов, сама смерть за веру – и убийство за веру – стало считаться сильнейшим очищающим фактором.
Самураю, очень часто попадавшему в военное время в ситуацию «убей – или будешь убит», требовалось какое-то учение, которое если и не оправдывало бы Путь воина как таковой, то, по крайней мере, направило бы опыт переживания смерти – своей и чужой – в несколько более спокойное русло. Таким учением как раз и стал дзэн. Мы не будем много говорить о сущности дзэн, его зарождении в Индии и Китае и путях его проникновения в Японию в XIII веке. Главное, что мы попытаемся выяснить – чем мог помочь дзэн самураю в поисках ответа на одну из главных загадок человеческого бытия – загадку смерти.
Прежде всего в дзэн могли привлекать его кажущаяся простота и отсутствие необходимости учить хитроумные заклинания-мантры, осваивать многочисленные сутры. Фактически дзэнские практики имели больше общего с идеалом и практической деятельностью не пассивного монаха-интеллектуала, а активного воина-«деятеля». Независимый, не приемлющий традиционных буддистских авторитетов характер учения дзэн не мог не импонировать гордым буси, которые, осознав свою силу, вовсе не желали далее быть второстепенным служилым сословием ни при утонченно-изнеженных аристократах-кугэ, ни тем более при буддистских монахах уже «традиционных» на то время для Японии сект, поучавших воинов смирению, покорности и ненасилию, и при этом стремившихся к земным благам, в том числе к власти. Что-то подобное происходило и в средневековой Европе, но в целом у большинства европейских рыцарей не было особой альтернативы католицизму как таковому – по крайней мере, до появления мощных ересей типа катарской [20] Катарская ересь – разновидность дуалистической ереси в христианстве.
, а в XVI веке – протестантизма, привлекавших прежде всего сравнительно малым вмешательством в земные дела воинского сословия (по крайней мере, поначалу). Дзэнские наставники (такие как первый дзэнский учитель в Японии Эйсай) почти никогда не пытались влиять на политические процессы в стране и не становились на сторону тех или иных самурайских кланов и группировок, заслужив этим самым немалое уважение к себе. Это способствовало тому, что дзэн из локального очень быстро превратился в общеяпонское явление – уже в конце XIII века в Японии были десятки дзэнских храмов и монастырей, и многие даймё и самураи начали отдавать своих детей учиться дзэн. Несколько сиккэнов Ходзё и сёгунов Асикага были дзэнскими послушниками и даже монахами в миру.
И дело даже не в том, что дзэн с его практиками медитации и коанов мог принять и образованный, и не очень образованный самурай (который, кстати, получал посредством дзэнского воспитания и неплохое образование), – главное, что благодаря знаменитому тезису о возможности фактического достижения нирваны в условиях сансары посредством следования своему Долгу дзэн снимал большую часть противоречий между буддистским неприятием смерти и необходимостью заниматься военным делом. Говоря несколько упрощенно – если амидаизм в ответ на вопрос о том, что делать самураю, отвечал: «сожалеть, что вследствие плохой кармы родился в воинской семье, и по возможности все же не убивать, ибо это великий грех, очистить от которого может только Амида», то дзэн, провозгласивший весь мир иллюзией, призывал смело следовать избранному пути, твердо надеясь не на богов и будд, а на себя, свое сердце, способное достичь сатори (прозрения), и понять, что все вокруг обладает природой будды, поэтому наши понимания чистого и нечистого, праведного и неправедного – лишь тени. Отсюда лишь шаг до снятия со смерти покрова ритуальной нечистоты. Главной добродетелью провозглашалась некая «спонтанная искренность», она же «интуитивная прямота» (в терминологии современного наставника доктора Судзуки), достигаемая в результате медитации, работы с коанами (дзэнские «загадки»), занятий живописью, каллиграфией, стихосложением и… военным делом, причем как планированием боевых действий, так и боевыми искусствами. Так военное дело вписывалось в комплекс дзэнской подготовки человека к осознанию им своего места в мире и просветлению, после которого он видел все по-иному. Смерть выходит из жизни, и жизнь возникает из небытия, и что из них является подлинной реальностью? В свете всего этого противопоставления жизнь – смерть, поражение – победа (в том числе в войне, в поединке) размываются, а в идеале – исчезают вовсе. Главное же – следование избранному пути, без жалоб, сожаления, упреков. Сочувствие на этом пути вполне может сопутствовать самураю, но это сочувствие – скорее в духе Ницше, очень по-дзэнски вопрошавшего устами своего Заратустры: «Будьте такими, чье око ищет врага – своего врага. Не каждый из вас способен на ненависть с первого взгляда. Если же убеждения, которые вы отстаивали, потерпят поражение, пусть верность ваша торжествует победу свою!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: