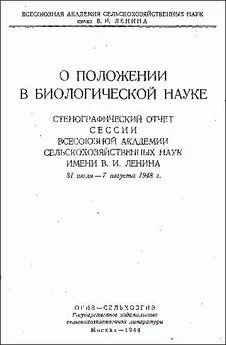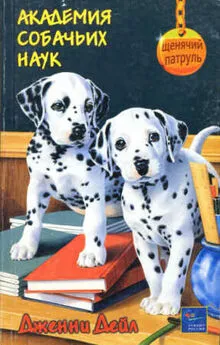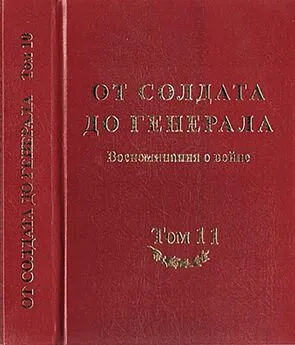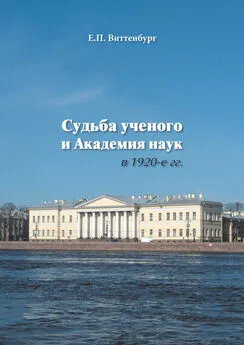Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук - О положении в биологической науке
- Название:О положении в биологической науке
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Полиграфкнига
- Год:1948
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук - О положении в биологической науке краткое содержание
Знаменитую сессию ВАСХНИЛ в августе 1948 г. называют исторической. И это действительно так – августовская сессия навсегда вошла в историю науки и человечества. И она никогда уже не будет забыта. Она останется в летописи человеческой истории, но только как пример бессмысленного уничтожения достижений биологической науки в масштабах огромного государства, как пример произвола и надругательства над убеждениями ученых. Эту сессию будут всегда вспоминать, но лишь как гигантский погром и великий обман, отбросившие советскую биологическую науку на десятилетия назад и на много лет остановившие развитие сельского хозяйства нашей родины в угоду небольшой группе невежественных людей.
О положении в биологической науке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Может быть это и лишило академика Шмальгаузена лидерства в области формальной морганической генетики, ибо новая звезда, воссиявшая в созвездии МГУ, профессор Алиханян объявил на недавней дискуссии по книге Шредингера «Что такое жизнь с точки зрения физики?» плюсквамперфектумом все, что было основой для академика Шмальгаузена в области формальной морганической (мендельянской по выражению Тимирязева) генетики.
Оказалось, что за короткое время произошла колоссальная ревизия классической формальной генетики, и новый пророк ее пишет уже о химической природе гена, а МГУ и «Успехи современной биологии» (хорошие, видимо, успехи!) печатают. По этой теории ген есть лишь средоточие, где встречаются внешние и внутренние факторы развития организма. Ген, действительно, существует в хромосоме реально, но он связан с признаками и влияет на них лишь через геногормоны, испускаемые генами, очевидно, внутрь организма, как это полагается для гормонов. Как известно, в биохимии гормоны являются очень сложными соединениями, которые создаются специальными органами – железами внутренней секреции. Додуматься до представления о гене, как органе, железе, с развитой морфологической и очень специфической структурой, может только ученый, решивший покончить с собой научным самоубийством. Представлять, что ген, являясь частью хромосомы, обладает способностью испускать неизвестные и не найденные вещества, и заявлять, не будучи биохимиком, что эти вещества – гормоны, значит заниматься метафизической внеопытной спекуляцией, что является смертью для экспериментальной науки. Подобно тому, как Шредингер попробовал объяснить жизнь при помощи физики, Алиханян пытается объяснить ее при помощи химии. Но участь обоих бесславна, а в особенности Алиханяна, ибо Шредингер все-таки сам физик, а Алиханян в химии понимает ровно столько же, сколько Шредингер в биологии. Огромная литература иностранного и довольно странного происхождения, приведенная Алиханяном в статье о химической природе гена, хоть и показывает раболепие его перед заграницей, однако вынуждает и самого признать, «что прямая помощь, которую оказывает химия в освещении генетической и биологической эволюции, пока довольно ограничена, но она обещает оказаться в дальнейшем все более значительной» («Химическая природа гена», стр. 105). То-то и оно-то! Не от хорошей жизни генетик забрел в чуждую и темную область, из которой его попросят сами химики.
В другой своей статье – «Проблема гена в современной генетике» – автор Алиханян совершенно бессовестно пытался подкрепить многочисленными цитатами из классиков марксизма явно метафизические положения вроде следующих: «Ген не зародыш признака и не единственная ответственная материальная частица клетки, определяющая образование признаков или развертывающаяся в признак. Признак – это результат развития всей клетки, взаимодействия клеток и, наконец, результат взаимодействия с внешней средой (чего же в конце концов? – С.П. ). Ген определяет специфическое развитие признака, определяет направление, в котором должен развиваться признак» (стр. 11). Правильно говорил академик Шмальгаузен, что представление о гене «приблизилось к вейсмановскому представлению о детерминанте» (стр. 53), т.е. самому реакционному и ненаучному представлению в биологии.
Еще большую смелость, так сказать, проявляет Алиханян, когда авторитетно заявляет, что «на синтез триптофана влияют два разных гена. Один из них требует для роста или индол или атраниловую кислоту, другой – только индол. Оба эти вещества являются предшественниками триптофана, а атраниловая кислота – более раннее звено в цепи реакций», что «возможно сведение действия генов к простым химическим реакциям» и что «количество генов, связанных с синтезом какого-либо вещества, приближается к количеству звеньев в реакции» (см. рис. 9 и стр. 10 и 11).
Таковы рассуждения человека, очевидно мало знакомого с органической химией, ибо он антраниловую кислоту упорно именует атраниловой.
Подобными рассуждениями наполнена вся статья. Ясно, что новый уклон в формальной генетике еще хуже, чем прежний!
Главный принцип вейсманистов – отрицание передачи по наследству приобретенных признаков. Господство этой концепции в науке всегда приводило в дореволюционное время к трагическим развязкам. Так, например, крупный материалист биолог профессор Шимкевич, мой учитель по теории эволюции, в своей в общем очень хорошей книге «Биологические основы зоологии» писал по поводу Вейсмана не то, что он говорил нам в узком кругу, причем он довольно цинично заявлял, что не хочет терять кафедры из-за этого вопроса и не хочет попадать в положение Сеченова, на которого, в свое время, за его материалистические взгляды ополчилась не только светская, но и духовная власть. Шимкевич, боясь в условиях дореволюционной России преследований, забросил и свои интересные опыты по влиянию на процесс инкубации ряда веществ, вызывающих резкие изменения в ходе онтогенетического развития организма, остановку филогенетического повторения и направление онтогенеза по иному руслу.
Нападки формальных генетиков на теоретические опыты Е.А. Богданова с мясной мухой, выводы из которых противоречили менделизму-морганизму, на работы М.Ф. Иванова в племенном животноводстве были настолько ожесточенными, что подчас создавали невыносимые условия для их работы.
Слишком шумно формальные генетики проявляют себя в СССР и ныне. Достаточно им было собраться в стенах Московского университета и оказаться в случайном большинстве, как они тотчас же отлучили от дарвинизма мичуринское течение, тотчас же сделали попытку изгнать из Ленинградского университета тов. Презента и тов. Турбина. Особенно усердствовал в стремлении уничтожить мичуринцев профессор Поляков из Харькова. Для характеристики этого профессора я прочту документ, относящийся еще к 1927 г. Этот самый Поляков пишет профессору Козо-Полянскому:
«Уважаемый товарищ Козо-Полянский! По поручению группы товарищей информирую Вас о следующем. На-днях окончился Всесоюзный съезд зоологов, анатомов и гистологов Биологи – диалектические материалисты, бывшие на съезде, решили сорганизоваться и положить начало существованию Всесоюзного объединения биологов-марксистов. Пока что мы решили не замыкаться в рамки общества, а установили личные связи, переписку и включили в план нашей работы на 1928 г. Всесоюзную дискуссионную конференцию и обмен докладчиками. В наше объединение решено привлечь лишь узкий круг товарищей, стоящих на позиции последовательного диалектического материализма.
Организаторы-корреспонденты по Москве – Левин, Завадовский Б.М. и Агол, по Ленинграду – Куразов, Харькову – Финкельштейн и я (т.е. Поляков. – С.Д. ), Ташкенту – Бродский. Ленинградским товарищам поручено привлечь в наше Объединение ботаников, которые приедут на Всесоюзный ботанический съезд. От нас будут тт. Рыжков и Коршиков. Думаю, что Вы не откажетесь присоединиться к нам. С товарищеским приветом И. Поляков. Харьков, ул. Артема, 46, кв. 2, 27/ХП 1927 г.». Мы не будем говорить, что вышло из затеи. Сегодня это не столь важно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: