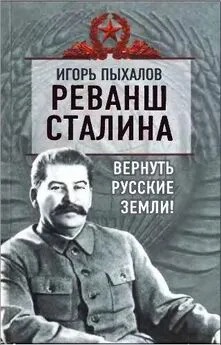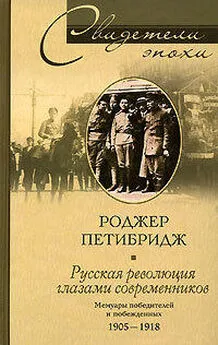Игорь Данилевский - Русские земли глазами современников и потомков (XII-XIVвв.). Курс лекций
- Название:Русские земли глазами современников и потомков (XII-XIVвв.). Курс лекций
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСПЕНТ ПРЕСС
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5—7567—0127—3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Данилевский - Русские земли глазами современников и потомков (XII-XIVвв.). Курс лекций краткое содержание
Учебное пособие продолжает курс лекций «Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.)» того же автора и изучает период от распада Киевской Руси до образования Московского царства.
Книга предназначена для студентов и аспирантов гуманитарных факультетов вузов.
Русские земли глазами современников и потомков (XII-XIVвв.). Курс лекций - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«…Хотя у Руси не было повода для войны против монголов и, более того, те прислали [накануне битвы на Калке] посольство с мирными предложениями, князья, собравшись…на снем (совет), решили выступить в защиту половцев и убили послов. <���…> Это подлое преступление, гостеубийство, предательство доверившегося! И нет никаких оснований считать мирные предложения монголов дипломатическим трюком. Русские земли, покрытые густым лесом были монголам не нужны, а русские, как оседлый народ, не могли угрожать коренному монгольскому улусу, т. е. были для монголов безопасны. <���…> Поэтому монголы искренне хотели мира с русскими, но после предательского убийства и неспровоцированного нападения мир стал невозможен» [201] Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. С. 339.
.
К тому же, хорошо известно, что мирные переговоры, которые затевали монголы, в подавляющем большинстве случаев оказывались, несмотря на заверения историка, как раз дипломатическим трюком. И если свидетельство Плано Карпин и о том, что монголы
«…не заключают мира ни с какими людьми, если только те случайно не предаются в их руки»,
а когда
«…стоят против укрепления, то ласково говорят с его жителями и много обещают им с той целью, чтобы те предались в их руки; а если те сдадутся им, то говорят: “Выйдите, чтобы сосчитать вас согласно нашему обычаю”. А когда те выйдут к ним, то Татары спрашивают, кто из них ремесленники, и их оставляют, а других, исключая тех, кого захотят иметь рабами, убивают топором» [202] Плано Карпини История монголов. СПб., 1911. С. 56, 58.
,
можно счесть злостным наветом монголофоба-европейца, то рассказы самих монголов или их союзников об аналогичных случаях, подобных процитированному сообщению Рашид-ад-дина, полностью рассеивают недоверие к традиционной точке зрения.
К тому же достаточно вспомнить историю монгольских походов, чтобы понять: большинство государств, завоеванных ими, подобно Руси, при всем желании не могли представлять ни малейшей угрозы коренному монгольскому улусу. Тем не менее, вопреки рассуждениям Л. Н. Гумилева, монголы на них напали и завоевали, независимо от того, скрывали они кого-либо из врагов Монгольской империи или нет и убивали ли вражеских послов. Да и сами монголы не особенно церемонились с послами противника. В качестве примера такого подлого преступления, предательства доверившегося монголами можно привести историю, связанную с завоеванием Закавказья:
Так как проход через Дербенд был невозможен, то они [монголы] послали к Ширван-шаху (сказать): “Пришли несколько человек, чтобы нам заключить мирный договор”. Он прислал 10 человек из старейшин своего народа; одного они убили, а другим сказали: “Если вы укажете нам дорогу через это ущелье, то мы пощадим вам жизнь, если же нет, то вас также убьем”. Те из страха за свою жизнь указали (путь), и они [монголы] прошли [203] Рашид-ад-дин. Сборник летописей. С. 326.
.
Конечно, дело здесь не в злостной недобросовестности автора, а, скорее, в увлеченности собственной теорией, а также в установках, которыми (иногда явно, иногда подспудно) определяются направление и содержание его работ. Будучи евразийцем по убеждениям, Л. Н. Гумилев всеми средствами к сожалению, порой вопреки свидетельствам источников и здравому смыслу доказывал благотворность восточных веяний в экономике, культуре и политике нашей страны, жестко критикуя любую апелляцию к Западу.
Всякая теория неизбежно спрямляет материал, который составляет ее основу и на который эта теория впоследствии проецируется. Волей-неволей автору любого обобщения приходится обрубать побочные ветви и побеги (как тут не вспомнить строчки из Гете, открывавшие старый учебник обществоведения: Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет). Тем не менее теория должна объяснять как можно большее число живых фактов, не искажая их. Это касается, несомненно, и теорий исторического процесса. Если же данные источников систематически противоречат обобщающим построениям, стуит, видимо, всерьез задуматься над тем, насколько удовлетворительно данное объяснение, или… Если историка больше волнует не истина насколько она вообще достижима (хотя бы в плане установления того, как было на самом деле), а его собственные представления о том, каким должно быть прошлое, он начинает переписывать источники и историю в угоду своей теории.
К сожалению, дедуктивный метод , который избрал Л. Н. Гумилев для своих исторических штудий, создает определенную предрасположенность именно ко второму способу работы с источниками. Декларируемое Л. Н. Гумилевым стремление вырваться из прокрустова ложа заданной схемы невозможно без мелочеведения, от которого он, однако, категорически отказывается [204] Гумилев Л.Н. В поисках вымышленного царства. М., 1992. С. 14.
. Только тщательный анализ мелочей, из которых, собственно, и складывается жизнь как одного человека, так и целых государств, может разрушить заранее заданную схему и оживить историческое построение. В противном случае итогом разрушения одного прокрустова ложа становится создание другой мебели, которая хоть и имеет иную конфигурацию, но по-прежнему слишком жестка для информации, которую историк получает из источников. Другими словами, подход, избранный Л. Н. Гумилевым, неизбежно вел к новым теоретическим конструкциям, быть может внешне более изящным и экзотическим, однако столь же императивным, как и общепринятые в недалеком прошлом схемы.
Вернемся, однако, к нашему тексту.
Летописец объясняет действия ордынцев, приписывая первому посольству следующие слова:
«…Мы вашей земли не заяхом , ни горд ваших, ни сел ваших, ни на вас придохом, нъ придохом Богом пущени на холопы и на конюсе свое на поганыя Половче»
Таким образом, по словам летописца, татары якобы сами осознают, что являются своеобразным бичом Божьимдля поганых половцев. Конечно, перед нами точка зрения самого летописца. Именно поэтому она совпадает с позицией, изложенной составителем повести от собственного лица: татары пришли на половцев, движимые гневом Господним.
Летописец же устами татарских послов предлагает русским князьям принять участие в наказании Божественном! половцев:
…а вы взмите с нами мир; аже выбежат [половцы] к вам, а биите их оттоле, а товары емлите к собе: занеже слышахом, яко и вам много зла створиша; того же для и мы бием
Виновникам возможного в будущем кровопролития татарские послы а точнее, все тот же летописец называют все тех же половцев:
се слышим оже идете против нас, послушавше Половець
Еще одно указание автора на ту неблаговидную роль, которую сыграли половцы в возникшем конфликте, представляется неслучайным: книжник убежден сам в пагубности согласия русских, поддавшихся на половецкие уговоры, и убеждает в этом своих читателей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: