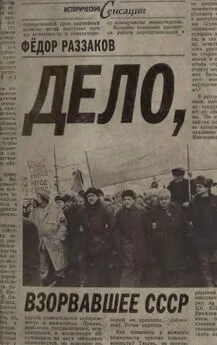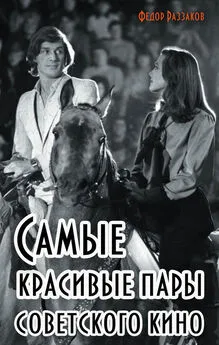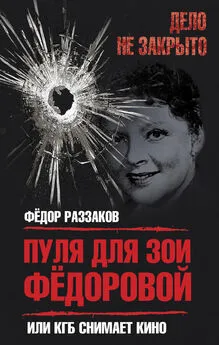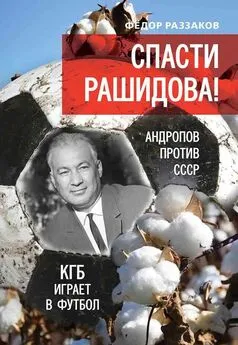Федор Раззаков - Индустрия предательства, или Кино, взорвавшее СССР
- Название:Индустрия предательства, или Кино, взорвавшее СССР
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:М.: Алгоритм, 2013. - 416 с.
- Год:2013
- ISBN:978-5-4438-0307-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Федор Раззаков - Индустрия предательства, или Кино, взорвавшее СССР краткое содержание
В книге рассказано о неизвестных страницах горбачевской катастройки, которая победила не в последнюю очередь с помощью кинематографических чернухи и порнухи, заполнивших экраны страны и умы зрителей по заказу перестройщиков из ЦК КПСС. Не случайно разрушители великой державы первым делом взялись за «важнейшее из всех искусств» — советское кино. Придя к власти на V съезде Союза кинематографистов СССР в мае 1986 года либералы заполучили индустрию кино в свое безраздельное пользование, после чего переориентировали ее так, что она стала одним из мощнейших орудий в их разрушительных планах. Читатель узнает, как это было: в этой книге все названы поименно.
Индустрия предательства, или Кино, взорвавшее СССР - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вообще это было симптоматично для того времени: менять профессионалов на дилетантов. В кинематографе это было особенно заметно. Вспомним, кого выбросили из его руководства после V съезда: Сергея Бондарчука, Льва Кулиджанова, Станислава Ростоцкого, Юрия Озерова, Владимира Наумова, Евгения Матвеева. За каждым из них стояла целая эпоха в советском кинематографе! А кто пришел им на смену? Ну что, к примеру, такого эпохального создал в кино Элем Климов? На его «гамбургском» счету была одна детская комедия, малоудачная (по его же собственным словам) биография Григория Распутина и беспрецедентная, по советским меркам, военная драма в стиле «шок». А у Андрея Смирнова и вовсе была всего одна крупная удача — «Белорусский вокзал».
Другой видный реформатор — Сергей Соловьев — снимал детско-юношеское кино, которое и близко не стояло с бондарчуковскими «Судьбой человека» и «Войной и миром» или кулиджановскими «Дом, в котором я живу» и «Когда деревья были большими». Я уже не говорю про Андрея Плахова и Виктора Демина, которые, по сути, шагнули из грязи в князи. Единственными по-настоящему крупными деятелями кино среди реформаторов были Глеб Панфилов и Ролан Быков, однако первый, как мы знаем, сбежал из нового руководства СК, не проработав там и года. Поэтому прав был известный нам кинокритик Евгений Сурков, который 11 июля 1987 года заявил со страниц «Советской культуры» следующее:
«Я оцениваю как уродливую ситуацию, сложившуюся за последний год в Союзе кинематографистов и приведшую к настойчивому и последовательному отторжению от работы союза целой группы талантливых мастеров. Деление на «наших» и «ненаших», на «допущенных» и «недопущенных», вошедшее в союзе в обычай, привело к тому, что крупные художники, по тем или иным причинам подвергнутые критике на V съезде кинематографистов, до сих пор «отставлены» от союза и не привлекаются к работе наравне с молодыми мастерами, пришедшими к руководству после съезда. Это и практически нерационально, и по-человечески глубоко несправедливо, так как, кроме ошибок, раскритикованных на V съезде, у режиссеров, о которых идет речь, имеются и неоспоримые заслуги перед кино и зрителями, и огромный творческий потенциал, который глупо, нелепо было бы не использовать в дружной коллективной работе…»
Этот призыв оказался гласом вопиющего в пустыне. Дорвавшиеся до власти реформаторы даже мысли не допускали, чтобы протягивать руку для примирения людям, которых они именовали не иначе как «творцами застоя». И никакие их заслуги перед кинематографом для реформаторов значения не имели: здесь в дело включалась элементарная зависть людей малоталантливых, а то и вовсе бесталанных к людям талантливым.
Но вернемся к Алесю Адамовичу.
Он был из числа тех людей, кто люто ненавидел советский кинематограф именно за то, что тот долгие годы нес в себе державную функцию, являясь одним из самых массивных кирпичей в фундаменте государственной идеологии. Например, в своем предисловии к книге В. Фомина «Кино и власть» Адамович написал следующее: «Во времена, с которыми мы так трудно расстаемся, был создан и отлажен механизм-давильня, с помощью которого государство-монстр стремилось само искусство, а кино особенно, принудить к служению торжествующей лжи, порабощению человеческого духа…»
Вот так видный «прораб» перестройки одним росчерком пера отправил на свалку всю почти 75-летнюю историю советского кинематографа. Того самого искусства, во многом с помощью которого страна выиграла войну, преодолела разруху, вышла в мировые лидеры, став супердержавой. Но Адамовичу на это наплевать, поскольку задача перед ним тогда стояла одна: оболгать, извратить, уничтожить. Вот он и старался, буквально из кожи лез.
Кстати, сама книга «Кино и власть» тоже достойна отдельного упоминания. На почти 400 страницах речь в ней ведется о том, как советская власть ставила палки в колеса честным художникам. В качестве последних, естественно, выступают господа либералы вроде все тех же Элема Климова, Андрея Смирнова, Алексея Германа или того же Алеся Адамовича. Каждый из них чуть ли не со слезами на глазах рассказывает о том, как их «мордовали», «насиловали», «гнобили», чуть ли не иголки под ногти втыкали и ноздри щипцами вырывали. Когда читаешь, даже диву даешься: как же они, бедные, не только выжили за эти годы (а этот процесс «избиения» длился более 20 лет!), но еще и силы находили снимать кино (а каждый из них за эти годы снял не один фильм, а несколько). Поистине титаны духа и тела, не меньше!
Между тем все эти «плачи ярославен» по большей части были высосаны из пальца. И то определение, которое Адамович дал советской цензуре — «механизм-давильня», — тоже по большей части лживое. На самом деле если кого в те же брежневские годы и давили, то, во-первых, не так уж и сильно (иначе все эти плакальщики вряд ли бы остались в искусстве) и, во-вторых, чаще всего по делу. Взять пресловутую «полку» (то есть «полочные» фильмы), о которой либералы за эти годы все мозги общественности прополоскали. Ведь больше половины из этих картин легли туда вполне на законных основаниях — из-за своей художественной слабости. И только треть по идеологическим причинам. Но даже общее число всех «полочных» картин составляет каких-то 250 штук. В то время как в СССР с 1918 года и до горбачевской перестройки свет увидело порядка 8 тысяч художественных фильмов. То есть в процентном отношении «полочное» кино составляет ничтожный мизер. И вот из этого мизера господа либералы раздули жуткую по своим масштабам картину удушения творческих свобод в СССР. Короче, все как по Геббельсу: ври побольше — что-нибудь да останется.
Но вернемся к ситуации во ВНИИКе.
Теперь уже ясно, с какой целью в него был направлен Адамович: он должен был в короткий срок перепрофилировать это учреждение, которое было создано как контрпропагандистское. При Адамовиче институту предстояло не только теоретически обосновать необходимость теснейшего сближения советского кинематографа с западным, но и всячески способствовать его переходу на рыночные рельсы. Причем никакие возражения людей, которые не то чтобы выступали против подобного сближения и перехода, а хотя бы сомневались в их эффективности, Адамовичем не принимались априори. Будучи талантливым писателем, он почему-то считал, что с таким же талантом сможет разбираться в киношных делах и экономике. К чему это привело, всем известно — развалу киноотрасли.
Между тем любому нормальному киноведу, даже немного разбирающемуся в мировых кинопроцессах, должно было быть понятно, что включение советского кинематографа в мировую рыночную систему — это верная погибель для первого. Советская кинематография могла чувствовать себя независимой исключительно до тех пор, пока она держалась на почтительном расстоянии от западной и была защищена от нее «железным занавесом». Как только этот занавес исчезал и советская кинематография принимала условия игры своего недавнего противника, ситуация для нее принимала иной оборот и была похожа на ту, в которую попадал червяк, сорвавшийся с крючка и упавший в воду, кишащую хищными рыбами. Ни о каком равноценном партнерстве с западным киномиром и речи не могло идти.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: