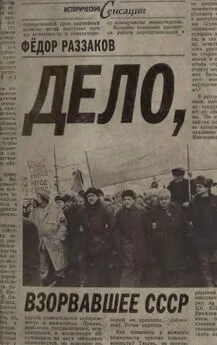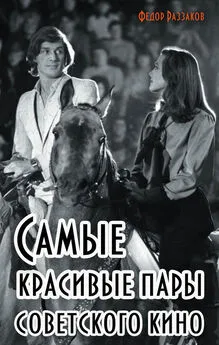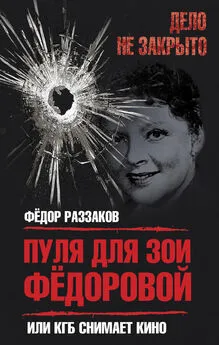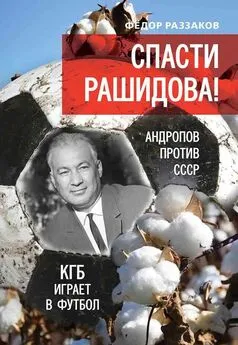Федор Раззаков - Индустрия предательства, или Кино, взорвавшее СССР
- Название:Индустрия предательства, или Кино, взорвавшее СССР
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:М.: Алгоритм, 2013. - 416 с.
- Год:2013
- ISBN:978-5-4438-0307-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Федор Раззаков - Индустрия предательства, или Кино, взорвавшее СССР краткое содержание
В книге рассказано о неизвестных страницах горбачевской катастройки, которая победила не в последнюю очередь с помощью кинематографических чернухи и порнухи, заполнивших экраны страны и умы зрителей по заказу перестройщиков из ЦК КПСС. Не случайно разрушители великой державы первым делом взялись за «важнейшее из всех искусств» — советское кино. Придя к власти на V съезде Союза кинематографистов СССР в мае 1986 года либералы заполучили индустрию кино в свое безраздельное пользование, после чего переориентировали ее так, что она стала одним из мощнейших орудий в их разрушительных планах. Читатель узнает, как это было: в этой книге все названы поименно.
Индустрия предательства, или Кино, взорвавшее СССР - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Мы говорим о возможности работы с Западом. О каком сотрудничестве может идти речь, когда мы считаем деньги в чужих карманах и не понимаем, что до момента, пока мы не будем иметь уважение к себе, нас никто уважать не будет никогда! Эти позорные суточные, эта возможность иметь больше только потому, что кому-то что-то подарил, эта мелочность, это низкое обслуживание людей, эта невозможность представить себе, что мы есть великая держава… К нам относятся как к дешевой рабочей силе, и мы себя сами считаем дешевой рабочей силой и позволяем с собой обращаться так. Потому что мы думаем, что если мы будем похожи на них, то нас будут любить. Это неправда, потому что похожего не любят — любят того, кто имеет свое лицо, свою культуру» (выделено мной. — Ф.Р).
В полемику с Михалковым тут же вступил его давний оппонент — бывший глава Союза кинематографистов Элем Климов. Он сказал следующее:
«Сейчас идет спор — как же нам выйти на мировой экран, на мировой кинорынок, как сделать, чтобы нас приняли, поняли, увидели.
У нас с Никитой Михалковым идет уже давний диалог, спор. Он по-своему прав. Не прав он, как мне кажется, в этой обязательной императивной установке — попасть туда во что бы то ни стало. А для этого, оказывается, надо стать совсем другим. Надо преобразиться. Вот надо ли?
Может быть, самая большая сложность на сегодняшний день — наконец стать самими собой. И все, что мы здесь пытались за эти три года делать, — это попытка помочь нам всем снова стать самими собой…»
Читаешь эти слова Климова и просто диву даешься: вроде бы серьезный человек, не первый год в кинематографе, но на глазах будто шоры какие-то. Неужели он не видел, куда с его подачи катился некогда великий советский кинематограф? Ведь на дворе был уже не 86-й и даже не 87-й, а 89-й год! Уже почти три года у кинематографистов были развязаны руки — снимай не хочу! — но шедевров, достойных того, чтобы войти в сокровищницу не то что мирового, но хотя бы отечественного кинематографа, как не было, так и нет. Свобода по лекалам либералов привела к падению нравов и замене подлинного искусства суррогатом. Не случайно ведь и на эстраде тогда господствовали сплошные «фанерщики»: разные «ласковые май», «миражи», «комбинации» и т. д. и т. п. В кино происходило почти то же самое.
Конечно, было бы неверно говорить, что все мэтры тогда «сдулись». Тот же Никита Михалков ничего стыдного в те годы не снял. Хотя, учитывая его талант, вполне мог бы сотворить какой-нибудь шедевр на тему современности (вроде «Ассы» Сергея Соловьева или «Интердевочки» Петра Тодоровского). Но Михалков снял «Очи черные». Потому что не хотел быть как все. Коллеги по цеху взахлеб обвиняли его в том, что Михалков из кожи лезет вон, чтобы понравиться Западу. Но что в этом было плохого? Ведь Михалков хотел понравиться русской классикой, а не какой-нибудь современной поделкой на тему «как бандит полюбил проститутку».
На том же пленуме хорошую речь произнесла кинокритик И. Шилова, весьма точно поставившая диагноз той ситуации, которая складывалась в тогдашнем советском кинематографе. Вот ее слова:
«Смена знака — путь наиболее ясный и простой. Перестав льстить, экран естественно предался обличению, разоблачительству. Он предлагает реальность как она есть — с грязью, неустроенностью, с подвалами, коммуналками…
Да, кинофильм ведет сегодня зрителя в запретные места. Однако исходный посыл — не столько познание, исследование, сколько доказательство избранной теоремы по привычным схемам.
Из фильма в фильм нам предлагается выборочная характеристика — социальный персонаж, узнавший о своих физиологических потребностях: секретарь райкома, компенсирующий неприятности по службе сексуальным удовлетворением («ЧП районного масштаба»). Или муж и жена, исполняющие супружеские повинности по брачному обязательству («Трудно первые сто лет»); изнасилование («Меня зовут Арлекино»).
Экран как бы запрещает выходить из круга зла, строго предостерегая от несвоевременных полетов, требует погружения в мир кошмара и абсурда. И здесь рождается сомнение. Ранее экран утверждал: будь честным тружеником, хорошим семьянином — и тебе воздастся по делам твоим, борись с неправедным — и нелегкая твоя победа будет вкладом в светлое будущее твоей Отчизны; защити слабых, объедини их — и мир преобразуется.
Теперь же экран поучает: не вступай на скользкий путь, иначе обратного пути нет («Исповедь. Хроника отчуждения»); не сотвори себе кумира, ибо кумир окажется преступником («Трагедия в стиле рок»); не прельстись карьерой, ибо на пути к ней станешь монстром («ЧП районного масштаба»).
Прописи не ушли, напротив — становятся все более агрессивными, доказываются с аттракционной ударностью, с эпатажной жестокостью, со смакованием актов садизма и мазохизма.
Не кажется ли вам, что отечественный кинематограф становится не столько интернациональным, сколько иностранным, овладевает уже отработанным за рубежом механизмом и манками, бросается в крайности, игнорирует сущность отечественной культуры, ее гуманистических традиций? (Выделено мной. — Ф.Р.)
Осмелюсь высказать рискованное предположение: в этих самозабвенных обличениях, в этих холодных приговорах, упоенных покаяниях, своевременных играх — почти столько же правды, сколько в сладких, безудержно оптимистичных и сказочных творениях начала 40-х годов. Тогда зритель ждал утешения. Теперь ждет разоблачений и мести. Кинематограф отвечает этим ожиданиям, и скажу резко — спекулирует на них…»
Напомню, что это было сказано в мае 89-го. Речь эту слышали десятки кинематографистов, находившихся в зале, сотни потом познакомились с ней в газетном изложении. И что же? Остановило это вал «чернухи-порнухи»? Увы, ее стало еще больше. Практически она заняла все жанровые ниши, напрочь вытеснив с большого экрана гражданственно-патриотическое кино. Само слово «патриот» тогда стало ругательным. То есть та линия на выдавливание гражданственно-патриотического кинематографа, которая была взята на V съезде, теперь давала обильные всходы. Ведь либералам, которые собирались в ближайшем будущем «лечь под Запад», не нужны были патриоты своей страны, им нужны были космополиты, люди без роду и племени. Потому они с таким остервенением и боролись с фильмами, где в героях был советский солдат и разведчик — герои, которые во главу угла ставили не собственное благосостояние, а защиту своей Родины. Дословно это выглядело следующим образом (сошлюсь на слова кинокритика Елены Стишовой, сказанные ею на страницах альманаха «Экран» в 1989 году):
«Одиночное плавание» и фильмы этого ряда, культивирующие силу и супермена в форме советского солдата, имеют свою аудиторию и своих идеологов. Но коли уж мы до сих пор не отказались от тематического планирования и ориентируемся не на реальные потребности зрителя, а на представления планирующих организаций о том, что зрителю надо, неплохо бы предать гласности вопрос о том, нужен ли нам герой-супермен и как он воздействует на психику молодого человека с несложившимся мировоззрением (имея в виду, что 85 процентов зрительного зала страны — молодые люди от 12 до 23 лет)…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: