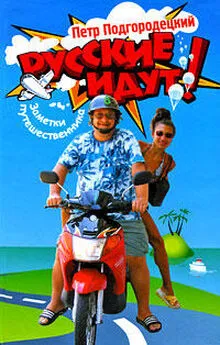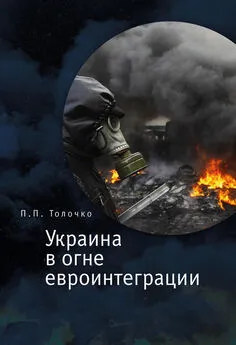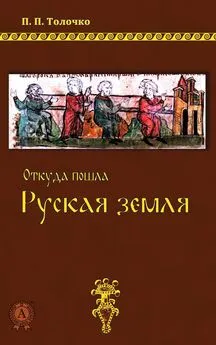Петр Толочко - Русские летописи и летописцы X–XIII вв.
- Название:Русские летописи и летописцы X–XIII вв.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2003
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-89329-557-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Толочко - Русские летописи и летописцы X–XIII вв. краткое содержание
В книге известного украинского археолога и историка П. П. Толочко рассказывается об исторической письменности Руси X–XIII вв. Это, по существу, первое специальное монографическое исследование, посвященное не одной какой-либо летописи или своду, а всему сохранившемуся до нашего времени наследию древнерусских хронистов. Автор имеет в этой области многочисленных предшественников, однако изучение русского летописания еще далеко не завершено. Оно содержит настолько большую и разнообразную историческую информацию, что долго еще будет источником творческих вдохновений и новых открытий. Основное внимание в книге уделено хронологии общерусского и поземельного летописаний, их взаимоотношению и взаимосвязям, содержанию и идеологической направленности отдельных сказаний, повестей и сводов, определению их авторства.
Книга предназначена для специалистов-летописеведов, преподавателей истории, аспирантов и студентов гуманитарных вузов, а также для всех, кто интересуется отечественной историей.
Русские летописи и летописцы X–XIII вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вывод историка об использовании Петром Бориславичем оригинальных княжеских грамот при написании летописи не был безоговорочно поддержан исследователями. Многим он казался недостаточно обоснованным. Необычной оказалась сама мысль о том, что каждый князь сохранял в своем архиве дипломатическую переписку: полученные им грамоты и копии грамот, направленных разным адресатам. Ранее считалось, что дипломатические поручения в XI–XIII вв. передавались через послов устно, а на страницы летописи они попадали в свободном пересказе.
Обычай «ссылаться речьми», а не писаными грамотами, как считал Д. С. Лихачев, был достаточно прочный. И хотя он уходит своими корнями еще в дописьменный период истории Руси, и позже, через несколько столетий после распространения письменности, русские послы устно говорили порученные им «рѣчи», не занося их на грамоты. [270] Лихачев Д. С. Русский посольский обычай XI–XIII ст. // Исторические записки. 1976. Т. 18. С. 47; Лихачев Д. С. Возникновение русской литературы. М.; Л., 1952. С. 91–110.
Аналогичного мнения придерживались И. П. Еремин, полагавший, что князья постоянно общались между собой при помощи своих доверенных лиц, а также О. В. Творогов, отмечавший, что берестяное «письмо» оказывалось нужнее в быту, чем в сношениях князей, располагавших опытными послами, запоминавшими наизусть речи своих сюзеренов. [271] Еремин И. П. Литература Древней Руси: этюды и характеристики. М.; Л., 1966. С. 109; Творогов О. В. К вопросу о периодизации литературы Киевской Руси // Русская литература. 1983. № 4. С. 123.
Наверное, княжеские посланники в XII в. пользовались древним обычаем устной передачи речей своих сюзеренов, однако это было скорее исключением, чем правилом. Если бы у нас не было других свидетельств, кроме большого сфрагистического материала, обнаруживаемого во время археологических раскопок, то и тогда вывод о наличии на Руси дипломатической переписки не требовал бы особых доказательств. Но ведь на этот счет имеются и вполне определенные летописные данные. Например, в 1144 г. Владимир Галицкий, недовольный тем, что великий киевский князь Всеволод передал Владимир-Волынский своему сыну, вернул ему крестную грамоту. «И Володимерко възверже емоу грамоту хрестьноую». [272] ПСРЛ. Т. 2. Стб.315.
А что такое письмо Владимира Мономаха к Святославу Ольговичу, как не та же пространная грамота? На миниатюрах Радзивиловской летописи, оригинал которых восходит к лицевому летописцу XII–XIII вв., гонцы и послы часто изображены со свитками — грамотами в руках. Так, на миниатюре, изображающей Изяслава Мстиславича во время приема им в 1147 г. половецких послов, последние вручают ему свитки.
Вопрос этот очень тщательно рассмотрен Б. А. Рыбаковым и нет необходимости изыскивать здесь дополнительные аргументы. Хотелось бы только остановиться на исследовании В. Ю. Франчук, осуществленном над языком грамот. К таковым она относит «крестные грамоты», являвшиеся письменной фиксацией мирных договоров, а также «речи», под которыми следует разуметь «послания». Выполнив системный лингвистический анализ Киевского летописного свода, В. Ю. Франчук убедительно подтвердила существование на Руси в XII в. широкой практики дипломатической переписки. Крестные грамоты, послания и посольские речи имеют своеобразное синтаксическое построение, характерное использование языковых трафаретов. Во всех случаях передачи послами речей своих князей они выступают от их лица, соблюдая грамматические формы первого лица. Князья, таким образом, как бы непосредственно общаются друг с другом. Отличительной особенностью княжеских посланий, согласно наблюдению В. Ю. Франчук, является использование существительных, обозначающих родственные отношения: «брате и отце», «брате и сватоу», «брате и сыноу». Структура посланий, включенных в летопись, отличается от структуры известных письменных документов, однако во всех их содержатся особенности, сближающие их как с грамотами, написанными на пергамене, так и с новгородскими берестяными грамотами. [273] Франчук В. Ю. Киевская летопись. К., 1986. С. 113–154.
Летопись Изяслава Мстиславича полностью апологетична. Не все действия великого князя были морально безупречны, но летописец всегда находил нужные слова, чтобы показать своего князя в лучшем свете или отвести от него подозрения в злокозненных действиях. Особенно постарался Петр Бориславич в рассказе об убийстве в 1147 г. в Киеве князя Игоря Ольговича, тень которого определенно падала на Изяслава. В оправдание действий киевлян летописец «раскрывает» страшный заговор черниговских князей, будто бы собиравшихся пригласить к себе Изяслава Мстиславича на переговоры и там убить его. «Кияне же рекоша: „Не мы его оубили, но Олговичи: Давыдовичи и Всеволодич, оже мыслили на нашего князя зло, хотяче погубити льстью, но Богъ за нашимъ княземъ и святая Софья“». [274] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 353.
Когда Изяславу, стоявшему с дружиной военным лагерем в верховьях Супоя, пришла весть из Киева об этом трагическом убийстве, он расплакался и, обращаясь к дружине, поклялся, что его вины в этом нет. Он не велел и не научал этому. Дружина охотно верит своему князю и, утешая его, по существу, повторяет версию, уже озвученную киевлянами. «И рѣша емоу моужи его: „Без лѣпа о немь печаль имѣеши, оже людемъ речи, яко Изяславъ оуби и, или повелѣтъ оубити, но то, княже Богъ вѣдаеть и вси людье, яко не ты его оже хрѣсть к тобѣ цѣловавше и пакы стоупиша и льстью надъ тобою хотѣли оучинити и оубити хотяче“». [275] Там же. Стб. 354–355.
Доверие дружины успокоило Изяслава и он, сказав, что «тамо намъ всим быти», велел продолжать подготовку к военному походу на черниговских князей.
Содержание летописи Изяслава свидетельствует о том, что ее автор постоянно находился при своем князе. Уход последнего из Киева во Владимир Волынский в 1149 г., по существу, никак не сказывается на степени полноты его жизнеописания. Он знает о переговорах Изяслава с правителями Венгрии, Польши и Чехии об оказании ему помощи в возвращении Киева, сообщает в мельчайших подробностях об участии польских и венгерских полков в конфликте Изяслава с Юрием Долгоруким. Он описывает маршрут похода Изяслава на Киев, который пролегал через землю Черных Клобуков и сопровождался их масовым переходом на его сторону. Так же обстоятельно описывается в летописи повторное пребывание Изяслава во Владимире в 1150 г., его стремительный поход на Киев, последовавший после не слишком успешной битвы с Владимиром Галицким под Ушеском. Летописец с таким воодушевлением рассказывает о военной хитрости Изяслава, ставшего якобы на ночь лагерем на берегу Ушицы и разведшего большие костры, а в Действительности продолжившего этой ночью путь на Киев, что кажется вполне реальным его участие в разработке этого военного плана.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: