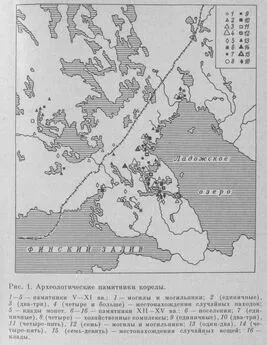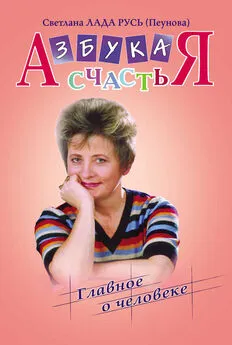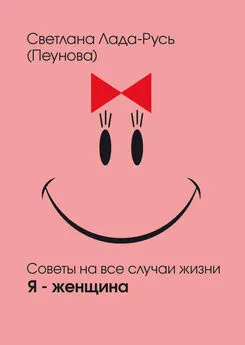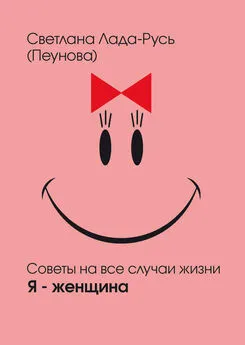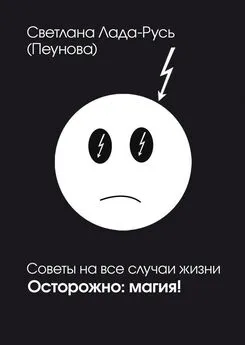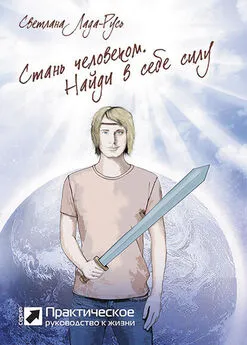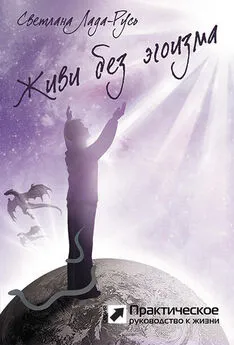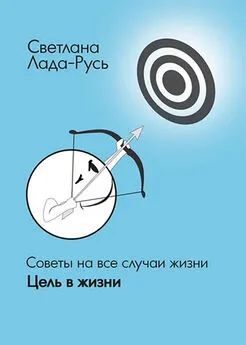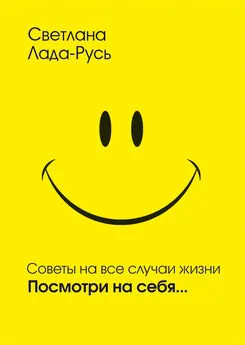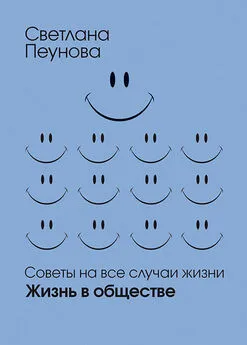Светлана Кочкуркина - Корела и Русь
- Название:Корела и Русь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1986
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Светлана Кочкуркина - Корела и Русь краткое содержание
В книге на основании археологических, этнографических, фольклорных, лингвистических и естественно-научных данных воссоздается история корелы — одного из северных финно-угорских народов, ближайшего соседа Великого Новгорода. Упоминания о кореле появились в летописях в XII в. и с тех пор не сходят с их страниц. Автор раскрывает историю взаимоотношений корелы с Новгородом и ее роль в защите северо-западных границ Руси.
Книга рассчитана на историков и широкий круг читателей.
Корела и Русь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Влияние восточных славян на прибалтийских финнов началось давно, но главные языковые контакты приходятся на рубеж VIII–IX вв. и отразились они не только на словарном составе языка, но и на фонетике (звуковом строе языка), грамматике. К русским заимствованиям относятся термины из области христианской религии, ткачества, строительства, земледелия, домашнего хозяйства и т. д.
В настоящее время карельский язык не имеет письменности. На нем говорят преимущественно в сельской местности.4
Важная роль принадлежит и топонимике — науке, изучающей географические названия. В этой области много и плодотворно работает В. Ниссиля. В последнее время появились интересные исследования Ё. Вахтола.5 Топонимические данные как языковые свидетели далекого прошлого являются надежным источником при выяснении территории расселения, путей передвижения отдельных племен и народов, этнической истории и хозяйственной деятельности. В топонимии Северо-Западного Приладожья основной фон составляют финско-карельские названия мест; римско-католических, скандинавских и нижненемецких немного. Наиболее древний пласт представляют топонимы саамского происхождения. По топонимам славянского происхождения можно сделать вывод (а также по-археологическим, историческим и этнографическим источникам), что славянское влияние охватило все сферы хозяйственной и культурной деятельности древних карел, и главным образом тех, которые жили в центральной и южной частях Карельского перешейка, т. е. в местах, близких к культурным центрам того времени.6
Этнографами осуществлены успешные реконструкции традиционной материальной культуры карел: одежды, утвари, домов, декоративного искусства. Проведена огромная работа по выявлению карельско-вепсских взаимовлияний и контактов. В меньшей степени разработаны карельско-саамские связи, хотя роль саамов в формировании и развитии карел и обратное влияние — карел на саамов, по лингвистическим и историческим данным, бесспорны.
О духовной культуре карел свидетельствует богатейшая фольклорно-эпическая традиция: древние народные песни (руны), ёйги,7 причитания, сказки, предания, загадки, пословицы, поговорки и т. д. Они же — неисчерпаемый источник для характеристики различных аспектов материальной культуры и социально-экономического развития. Вместе с тем надо помнить, что события, о которых рассказывается в народном эпосе, опоэтизированы и их нельзя приравнивать к документальным сообщениям.
В 1985 г. общественность нашей страны широко отмечала 150-летие «Калевалы» — величайшего произведения устного творчества карельского и финского народов.
28 февраля 1835 г. Элиас Лённрот подписал предисловие к первой редакции книги, которую назвал «Калевала, или старинные руны Карелии о древних временах финского народа». С тех пор 28 февраля отмечаетп как день рождения «Калевалы». В это издание вошли 32 руны (12 078 стихов). Второе, полное издание выпип. в свет в 1849 г. и включало 50 рун (22 795 стихов). Основу обоих изданий составляют подлинные народные песни, записанные от карельских рунопевцев в результате 11 поездок Лённрота по Финляндии, территории нынешней Карелии, Эстонии и Ингерманландии.
Героические песни, повествующие о подвигах героев, их деяниях, составляют только часть «Калевалы»; их Лённрот дополнил заклинаниями и свадебными песнями, не нарушив свойственного карельскому эпосу древнего синкретизма — единства слова, ритма и движения. Кроме того, его творческий подход выразился в сюжетном соединении рун, придании им композиционной стройности. Лённрот в какой-то мере взял на себя роль народного певца, сочинив недостающие звенья, стилизованные под народную поэзию. Народные и лённротовские строки органично переплелись, пространственные и временные представления, фольклорная эстетика преломились через сознание Лённрота, идеалы и мировоззрение человека XIX в.
Первый поэтический перевод «Калевалы» осуществил доцент Московского университета Л. П. Вельский. «Калевала» в его переводе, отмеченном Пушкинской премией Академии наук, была издана в 1888 г. Через несколько лет перевод на русский язык в стихах выполнил также Э. Гранстрем, опубликовавший до этого прозаический текст. Однако перевод Вельского и ныне остается одним из лучших.
С созданием «Калевалы» поиск произведений устно-поэтического творчества не закончился. К работе подключились новые собиратели и исследователи. Все песенные сюжеты в их многочисленных вариантах, собранные в Карелии и Финляндии, вошли в 33-томную серию «Suomen kansan vanhat runot» — «Древние руны финского народа», изданную в Финляндии (1908–1948). Следовательно, в нашем распоряжении имеются два памятника устного народного творчества, и отношение к ним как к возможным историческим источникам различно.
Исследовательский интерес к историческим отражениям в карельском эпосе наметился еще в юбилейном для «Калевалы» 1935 г., когда С. П. Толстов в одной из своих статей заметное место уделил образу пастуха-раба Кул-лерво, генезис которого он относил к периоду разложения первобытно-общинного строя и возникновения классового общества Целый ряд интересных мыслей, проливающих свет на отдельные моменты исторической основы карельского эпоса, высказывали в 1940–1941 гг. советские историки и археологи: А. Я. Брюсов, С. С. Гадзяцкий, А. М. Ли-невский. Представление об историчности рун в те времена иногда было довольно упрощенным: не учитывались изменяемость эпоса во времени и пространстве, напластование разных исторических периодов в каждой отдельно взятой руне, не принималось во внимание развитие эпической поэзии, идейное содержание которой в разные эпохи было всегда качественно различным. Словом, руны иногда воспринимались как достоверные факты документа.
В 1949 г. в нашей стране торжественно отмечалось столетие «Калевалы». В докладе О. В. Куусинена «Об основном содержании карело-финского народного эпоса „Калевала"» дана объективная оценка: «Калевала» является не исторической хроникой, а поэзией; это — плод богатого поэтического творчества народа древней Карелии, и в первую очередь ее нужно оценивать с этой точки зрения. Анализируя эпизоды, изображаемые в эпосе, Куусинен пишет, «что первоначально эти эпизоды имели под собою ту или иную историческую основу». Наличие исторических отражений в народных песнях он объясняет стремлением рунопевцев к реалистическому изображению действительности: «Тысячи реалистических подробностей в описаниях „Калевалы" бесспорно доказывают, что творцы и певцы рун стремились к правдивому, достоверному изложению дела. Но этот первобытный реализм в некоторых отношениях весьма значительно отличается от того, что современный читатель привык понимать под реализмом» 8 Относя основное идейное содержание эпоса к эпохе разложения первобытно-общинного строя, Куусинен, разумеется, не отрицает наличия и более поздних ступеней исторического развития устной народной эпической поэзии. Наоборот, он подчеркивает, что в «Калевале», как и в эпосах других народов, можно обнаружить наслоения, унаследованные от различных общественных формаций.9
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: