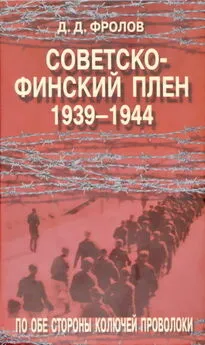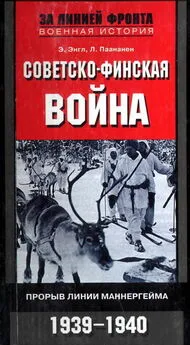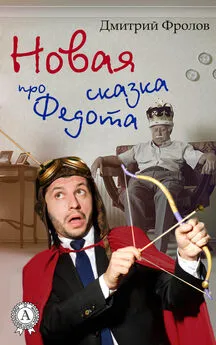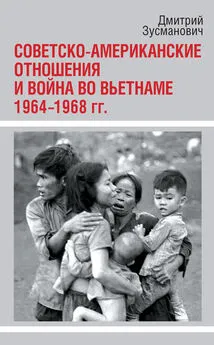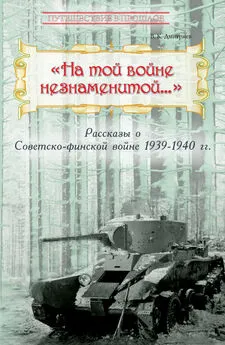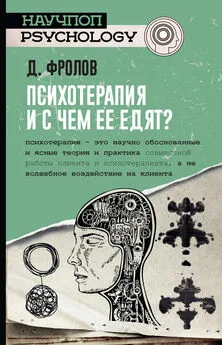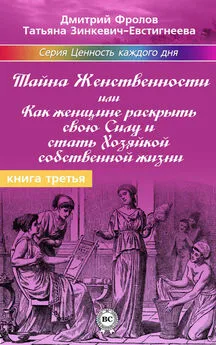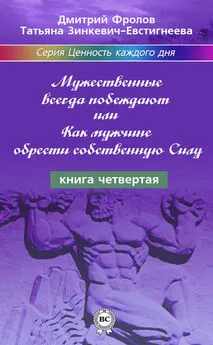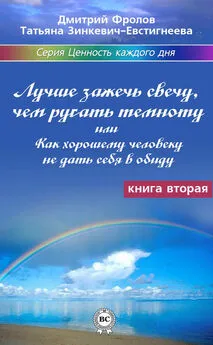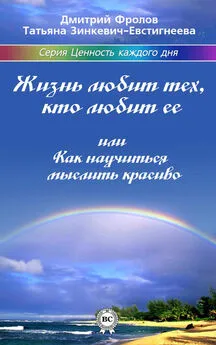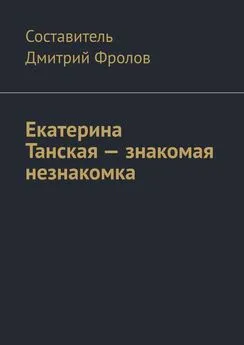Дмитрий Фролов - Советско-финскй плен 1939-1944
- Название:Советско-финскй плен 1939-1944
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:RME Group Oy, Алетейя
- Год:2009
- Город:Хельсинки (Финляндия), Санкт-Петербург
- ISBN:ISBN 978-952-5761-04-7 (RME Group Оу), 978-5-91419-199-0 (Алетейя)
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Фролов - Советско-финскй плен 1939-1944 краткое содержание
Монография профессора Д. Д. Фролова, работающего в Национальном архиве Финляндии, представляет уникальное научное исследование проблем захвата, содержания и возвращения советских и финских военнопленных двух войн ХХ столетия. Книга основывается на реальных фактах, полученных прежде всего в результате кропотливого изучения архивных материалов, многие из которых публикуются впервые, привлечена обширная историография.
Советско-финскй плен 1939-1944 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, мы проследили путь, пройденный многими военнослужащими Финляндии и СССР во время Зимней войны и войны продолжения от свободы до плена и от плена до свободы. Если, конечно, у них была свобода по обе стороны плена, выбор в условиях не заданного ими развития военных событий, свобода действий в рамках беспрекословного подчинения военному приказу, загонявшего поведение военнослужащего в узкие рамки дозволенного.
В то время существовало несправедливое мнение, согласно которому плен рассматривался как отклонение от военной нормы, допущенное нерадивым военнослужащим, или как его личное поражение в войне. При такой трактовке ответственность за пленение не распространялась на командира и коллектив различных по количественному составу воинских подразделений и формирований, а целиком возлагалась только на военнослужащего, поскольку считалось, что он закрыл глаза на свои обязанности перед воинским долгом, сдавшись на милость победителя.
Но в ходе исследования нередко возникало ощущение, что военнослужащий не был подлинно свободным. Сильный, а тем более смертельно уставший от тягот войны и поэтому равнодушный даже к возможной своей смерти, он часто вообще не выбирал и не мог выбирать что-либо. Он во многих случаях пытался плыть по течению обстоятельств, а если и выбирал, то сплошь и рядом стоял перед альтернативой быстрой смерти или медленной смерти — плена. Плена, который давал смутные надежды на жизнь, но приносил новые долговременные физические тяготы и душевные страдания и который вновь требовал от него нескончаемого терпения и несгибаемого мужества.
Поэтому я не выдвигал обвинения в адрес военнопленных — на это у меня нет никакого права. Я попытался разобраться в событиях. Более того, я не выдвигал и не взвешивал аргументы «за» и «против», поскольку старался уйти от черно-белой истории. Историк не судья. Нужно не судить, а стараться понять. Нельзя смешивать страсти прошлого с пристрастиями настоящего. Важны не оценочные суждения, а реальная человеческая жизнь. Только углубление в нее дает нам шанс воспроизвести более или менее точно подлинную картину истории.
Следуя по этому пути, глубоко убежден в верности своего вывода: к пленению военнослужащего нельзя подходить под углом зрения его вины. Плен — неизбежная объективная реальность боевых действий, создающаяся усилиями всех участвующих в военном противоборстве. Это естественное существование и вынужденные действия определенной части военнослужащих во время войны, которые нередко не зависят от принятого ими решения. Плен — такая же составляющая боевых действий, как наступление и отступление. А значит, как ответственность за отступление армии не может нести один ее рядовой солдат, так и плен не может быть поставлен в вину только самому военнопленному. Это вполне закономерный отрезок военной судьбы значительной части людей, защищающих государство, которое отправило их на войну и которое должно защищать их в плену. Да и стойкость, мужество, проявленные в плену, не могут быть более низкой пробы, чем мужество и стойкость на поле брани.
Это, пожалуй, самый главный вывод, к которому я пришел, проанализировав собранный мной исторический материал. Общий, но который, по моему мнению, нужно всегда иметь в виду при конкретном анализе конкретных исторических сведений в рамках исторического исследования проблемы военнопленных.
Исследуя проблему финских и советских пленных, необходимо учитывать, что мы имеем дело лишь с отдельным фрагментом общей проблемы военнопленных. Эта общая проблема была поставлена самим ходом истории и исторически изменялась, поскольку изменялись, в частности, сами люди, оказывавшиеся в плену. И конечно, как свидетельствовали исторические источники, на различных этапах истории эту проблему развивающиеся государства и общества решали по-разному.
Был пройден определенный исторический путь. Следовательно, тем, кому пришлось решать проблему военнопленных Зимней войны и войны Продолжения, не нужно было начинать все с нуля. Они были звеном в общей цепи, то есть, с одной стороны, цеплялись за прошлое, а с другой — открывали будущее. Это не могло не сказываться на действиях государств, решавших проблему военнопленных в новых исторических условиях.
Однако в полном объеме все статьи и положения Женевской конвенции оба государства в то время реализовать не могли по объективным причинам. Впрочем, ни одна страна, вступившая в войну, никогда не может соблюсти и не соблюдает все положения международных правовых документов. Каким бы демократическим государством она ни являлась, война накладывает определенный отпечаток на внутреннюю жизнь общества, ограничивая многие демократические принципы. Да и реализация любых гуманистических проектов всегда и везде требует дополнительных финансовых и материальных средств, на что правительства и чиновники идут крайне неохотно.
Ни Финляндия, ни СССР не ратифицировали Женевскую конвенцию 1929 года «Об обращении с военнопленными», мотивируя невозможностью точного выполнения некоторых статей и отдельных положений Женевской конвенции и расхождением с внутренним законодательством. Однако при этом обе страны заявили, что в случае возникновения проблемы будут ее решать в духе этого международного акта. То есть, не признавая Конвенцию de jure, de facto СССР и Финляндия брали на себя обязательство гарантировать права военнопленных, признанные мировым сообществом. Далее, обе страны подписали другой важный документ — Женевскую конвенцию 1929 года «Об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях».
В связи с этим я пришел к выводу, что вопрос ратификации данных международно-правовых документов был основан на особенностях национального законодательства СССР, в котором имелись статьи, предусматривающие уголовное наказание за сдачу в плен советских граждан. Соответственно, признав права иностранных пленных, СССР вынужден был бы признать и права собственных солдат и командиров, попавших в плен к неприятелю, что было недопустимо и идеологически вредно по представлениям руководства страны. Впрочем, существовали «смягчающие вину обстоятельства» — ранение, болезнь и недееспособность могли освободить советских военнопленных от уголовного преследования. Поэтому СССР в соответствии со своим внутренним законодательством закрепил равные права за своими и иностранными больными и ранеными пленными.
Следовательно, можно сделать вывод: еще за несколько лет до начала вооруженных противостояний между СССР и Финляндией Советский Союз de facto признавал основополагающие международные акты, определявшие отношения военнопленного и государства, удерживающего его в плену, и, используя в качестве фундамента внутреннее законодательство, создал правовые рамки при принятии соответствующих практических мер по решению проблемы иностранных военнопленных. Советский Союз подготовил несколько важных, фундаментальных нормативно— правовых документов, регулирующих все стороны жизни финских военнопленных в лагерях НКВД.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: