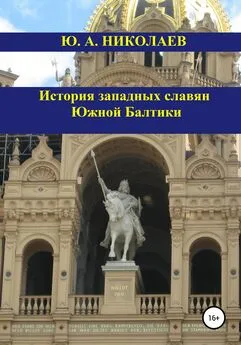Александр Гильфердинг - История балтийских славян
- Название:История балтийских славян
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Типография В. Готье
- Год:1885
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Гильфердинг - История балтийских славян краткое содержание
В основу своего исследования А.Ф. Гильфердинг положил противопоставление славянского и германского миров и рассматривал историю полабских славян лишь в неразрывной связи с завоеванием их земель между Лабой и Одрой немецкими феодалами.
Он подчеркивает решающее влияние враждебного немецкого окружения не только на судьбу полабских славян, но и на формирование их "национального характера". Так, изначально добрые и общительные славяне под влиянием внешних обстоятельств стали "чуть ли не воинственнее и свирепее своих противников".
Исследуя вопросы общественной жизни полабских славян, А.Ф. Гильфердинг приходит к выводу о существовании у них "общинной демократии" в противовес "германской аристократии". Уделяя большое внимание вопросам развития городов и торговли полабских славян, А.Ф. Гильфердинг вновь связывает их с отражением германской агрессии.
Большая часть исследования А.Ф. Гильфердинга посвящена изучению завоевания полабских славян немецкими феодалами и анализу причин их гибели. Он отмечает, что главной причиной гибели и исчезновения полабских славян является их внутренняя неспособность к объединению, отсутствие "единства и жизненной силы, внутреннее разложение, связанное с заимствованием германских обычаев и нравов". Оплакивая трагическую судьбу полабских славян, Гильфердинг пытается просветить и предостеречь все остальные славянские народы от нарастающей германской угрозы.
История балтийских славян - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
63
Под 1068 г., англо-норманнский летописец, Ордерик Виталий говорит о лютичах: "Лютичи не знали истинного Бога, но опутанные сетями невежества, поклонялись Гводену, Туру и Фрее и другим ложным богам или, скорее, бесам". Одна из ветвей балтийских славян, значило бы по свидетельству Ордерика, чтила три высшие божества германской мифологии: Водена (форма англо-саксонская; известнее скандинавская — Один), Тора и Фрею. Но очевидно, что этого сказания нельзя принять в буквальном смысле: можно ли предполагать, чтобы немецкие писатели, конечно, ближе знакомые с балтийскими славянами, чем норманнский историк, забыли упомянуть об их поклонении старинным богам Германии, если бы заметили у них следы такого поклонения? Именно о религии лютичей они сообщают много и довольно подробных известий, а между тем не говорят ни слова о существовании в их мифологии, так же, как и у других соплеменных им ветвей, какого бы то ни было германского божества. Ясно, мне кажется, что когда лютичи, в союзе с Данией, напали в 1068 г. на английские берега, и Ордерик стал расспрашивать кого-нибудь об этом неведомом народе, англо-сакса ли, датчанина или норманна, то ему перевели славянские имена их богов на соответствующие германские, которые он и принял за собственные их названия: это делалось беспрестанно, как в древности, так и в средние века. Таким образом, Воден мог быть принят за Святовита, Тор за Яровита, Фрея за Живу.
64
Гизебрехт, основываясь на известии Сефрида, что поморские славяне "не имеют вина и не ощущают в нем потребности, но имеют такой мед и так отлично приготовляемое пиво, что эти напитки превосходят у них фалернские вина", основываясь на этом известии, предполагает, что в рог Святовита наливалось не настоящее вино, а пиво или мед, и что Саксон Грамматик употребил слово вино из желания приблизиться к римским понятиям. Мнение это весьма вероятно.
65
Темное и смутное, но тем не менее любопытное указание на Святовита мы находим в баснословной легенде о святых, избиенных язычниками в Гамбурге (в 880 г.) и покоящихся в Эббекесдорфе (Эбсдорф, в Люнебургском крае): легенда эта составлена довольно поздно, кажется в XIV в., и не имеет исторической достоверности, но в ней слышен отголосок народных толков и монастырских рассказов тогдашней Германии: "Народ за Эльбою, говорит она, принужденный Карлом Великим принять Христианскую веру, после смерти могущественного императора воздвиг опять свои кумиры, своего Аммона, а именно Святобога, Витолюба, Радигоста и прочих, восстановил их на прежних местах и стал им поклоняться". Откуда взялись эти имена Святобог и Витолюб? Очевидно, в славянской мифологии не было ни того, ни другого. Нам кажется очевидным, что тут есть воспоминание о Святовите. Смутно хранило народное предание имя верховного бога балтийских славян, тогда уже почти исчезнувших, и из народного предания заимствовал его монах, составитель легенды; легенда возникла в Люнебургском крае, где именно еще жила кое-где славянская речь, и вот непонятое имя Святовита раздваивается, так сказать, в этом отдаленном отголоске, составные его части осмысливаются и превращаются в особые божества, в Свято-бога и Вито-люба: к обеим половинам коренного имени прибавлены, мы видим, слова самые понятные, и Витолюб имел для толкователей ту выгоду, что он представлял самую простую парафразу Радигостя: ибо, очевидно, Витолюб принималось в смыслы любящего приветствовать, согласно древнему значению славянского глагола витать (по-польски и теперь witac значит приветствовать).
66
Истукан щетинский был не очень велик: Сефрид называет его три головы небольшими; они были посеребрены. Разбив туловище, Оттон Бамбергский взял их с собой, а потом послал в Рим. В Волыне Триглав имел также какое-то золотое изображение: вероятно, оно не было главным его идолом, но оно пользовалось большим уважением, и когда христианские проповедники разбивали волынские кумиры, то жрецы сумели скрыть своего золотого Триглава, и спрятали его где-то в дупле старого дерева, видно, что размеры идола были невелики. Зато об истуканах в поморском городе Гостькове рассказывается, что они были удивительной величины, так что несколько пар волов едва могли их стащить с места; истуканы эти отличались превосходной резьбой, но неизвестно, какие божества были в них изображены.
67
По своему образованию, это слово принадлежит к разряду тех древнейших сложений, где простое окончание переводит корень существительного имени в категорию имен качественных: Свято-вит образовалось из корня вит, соответствующего санскритскому вити — свет, точно так же, как, например, древняя церковно-славянская форма благо-срьд корня срьд, лежащего в основании слова срьдьце — сердце (срав. литовск. ширдис — сердце), или как прилагательное камен (каменный) произошло от существ. камень.
68
Мы говорим, разумеется, об общенародной вере язычников, а не о тех высоких умозрениях, которые были уделом немногих мыслителей, оставаясь чуждыми народу.
69
Замечательно, что впоследствии Пикулс стало у пруссов означать дьявола, как Чернобог у люнебургских славян.
70
Мифологическое значение этого названия видно и из того, что при передаче прежнего Белбога во владение Церкви, поморские князья его переименовали; новое название было: "город Св. Петра". Впрочем, старое название (Belbuk) сохранилось доныне: Белбук лежит на р. Реге, близ города Трептова.
71
Именно у балтийских славян слово белый имело особенно обширное значение и употреблялось также в смысле светлого и прекрасного.
72
Очевидно, что это слово перешло к балтийским славянам в позднейшее время от соседних христианских народов, и, вероятно, от славян (поляков или лужичан), а не от германцев, которые изменили слово diabolus по законам своих звуков. Замечательно, что с другой стороны дьявол назывался Чернобогом у славян, находившихся еще в недавнее время в люнебургском крае.
73
Так же ненадежно и неопределенно другое описание идола Живы в Саксонской хронике, составленной в XV в. Ботоном: "Богиня, которую называли Живою, держала руки за спиной, и в одной руке было у нее золотое яблоко, в другой кисть винограда с зеленым листом, и волоса у нее висели до ног". Описания славянских кумиров, какие мы читаем у Ботона и Марескалка Турия, могли, конечно, быть ими выдуманы, но возможно также, и даже довольно вероятно, что эти писатели руководствовались какими-нибудь старыми преданиями: в их время еще жива была в северной Германии память о славянах и славянском язычестве. Во всяком случае, показания этих старых компиляторов никак не могут быть поставлены в один ряд с теми описаниями и изображениями славянских идолов, какие предлагают нам Маш, Потоцкий, Арендт и др. писатели нового времени, XVIII и XIX столетий, поклонники так называемых оботритских древностей, найденных будто бы в Прилльвице: древности эти явный и самый невежественный подлог.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
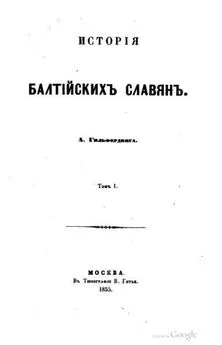



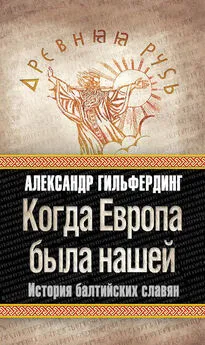
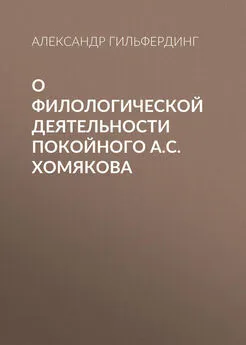
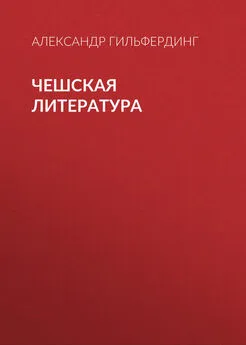

![Александр Широкорад - Давний спор славян. Россия. Польша. Литва [с иллюстрациями]](/books/1138398/aleksandr-shirokorad-davnij-spor-slavyan-rossiya-po.webp)