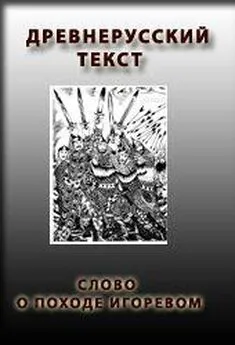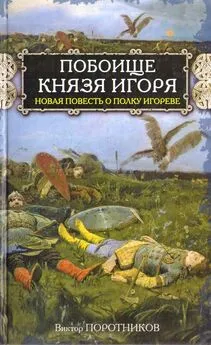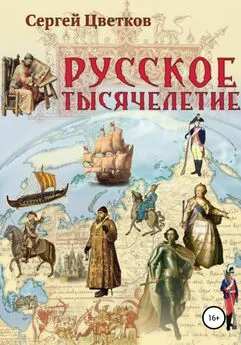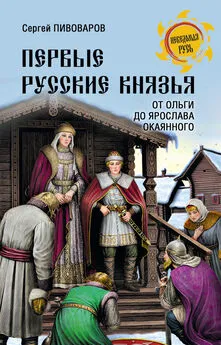Сергей Цветков - Русская земля. Между язычеством и христианством. От князя Игоря до сына его Святослава
- Название:Русская земля. Между язычеством и христианством. От князя Игоря до сына его Святослава
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центрполиграф
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-03441-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Цветков - Русская земля. Между язычеством и христианством. От князя Игоря до сына его Святослава краткое содержание
Известный писатель, автор многочисленных научно-популярных книг и статей, историк С.Э. Цветков детально воссоздает картину основания династии великих киевских князей Рюриковичей, зарождения русской ментальности, культуры, социального строя и судопроизводства. Автор предлагает по-новому взглянуть на происхождение киевской династии, на историю крещения княгини Ольги и ее противоборство с сыном, на взаимоотношения русов и славян, особое внимание уделяется международным связям Древней Руси.
Русская земля. Между язычеством и христианством. От князя Игоря до сына его Святослава - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
[4] А на самом деле больше. Один такой, «не учтенный» летописью, сын Святослава известен по сообщению византийского историка Иоанна Скилицы о том, что в 1016 г. флот имперского полководца Монга нанес поражение хазарам «при помощи Сфенга, брата Владимира [Святославича]»., старшему из которых, Ярополку, было, кажется, не менее тринадцати—пятнадцати лет и он уже год как был женат на «грекине». Здесь летописец явно оказывается гораздо ближе к истине, нежели тогда, когда, пользуясь обрывками преданий, набрасывает фантастическую биографию родителей Святослава.
Зная, какую огромную и подчас тираническую роль в жизни средневековых людей играл обычай, особенно в матримониальных отношениях владетельных особ, мы должны признать за верное, что к моменту рождения Святослава Игорю должно было исполниться лет пятнадцать—семнадцать, а Ольге — не больше пятнадцати лет. Рождение Игоря состоялось, таким образом, несколько позже 920 г. Эта датировка, помимо прочего, позволяет удовлетворительно объяснить не объяснимое никакими другими способами обстоятельство: почему при растянутом более чем на семь десятков лет княжении Игоря вся его действительная деятельность на страницах Повести временных лет умещается в одно пятилетие (941—945 гг.).
Выходит, что «старый Игорь» умер еще совсем молодым человеком [5] Хотя, как будет показано дальше, дату его смерти также следует отодвинуть с 945 г. на промежуток с 951 по 955 г.
— лишнее подтверждение тому, что его прозвище не имеет отношения к его возрасту по летописной биографии, а означает «старейшего», «первого» князя, родоначальника великих киевских князей [6] Ср. со «старым Ярославом» и «старым Владимиром» в Слове о полку Игореве. Старый там — всего лишь противоположность нынешнему, современному: «Почнем же, братие, повесть сию от старого Владимира до нынешнего Игоря...»
. И дано оно было ему задолго до того, как Рюрик и Олег попали в число его родственников.
Две Руси, две династии
Для прояснения отношений Олега и Игоря чрезвычайно важны их договоры с Византией — вполне надежные исторические документы [7] «Русско-византийские договоры, включенные в ПВЛ (Повесть временных лет. — С. Ц.)» как ее составная часть, — пишет Н.И. Платонова, — представляют собой источники, первичные по отношению к летописному рассказу о событиях X века на Руси и резко превосходящие его по информативным возможностям» (Платонова Н.И. Русско-византийские договоры как источник для изучения политической истории Руси X в. // Восточная Европа в древности и средневековье: Международная договорная практика Древней Руси. IX чтения памяти члена-корреспондента АН СССР В.Т. Пашуто: Материалы конференции. М., 1997. С. 69). По мнению Ф.И. Успенского, «во всех договорах выражается действительная жизнь и обрисовывается взаимное отношение между русскими и греками и все памятники дают одинаково ценный материал для характеристики быта и государственного положения Киевской Руси» (Успенский Ф.И. История Византийской империи: Период Македонской династии (867—1057). М., 1997. С. 270).
. Достаточно прочитать их хотя бы раз без оглядки на династическую концепцию Повести временных лет, чтобы увидеть непреложный факт: два князя, представители «руси», выступающие субъектами этих договоров, не имеют между собой ничего общего, кроме принадлежности того и другого к «роду русскому». Причем различие это прослеживается по самым существенным и важным признакам: титулатуре, вассальной иерархии, этническому составу дружин, направленности политических интересов.
В самом деле, если Олег — это «наша светлость», «великий и светлый князь русский», под чьей рукой находятся другие «великие и светлые князи русские» и «светлые бояре», сидящие в «русских» городах, то «великий князь русский» Игорь не имеет в подчинении не только «светлых», но и вообще никаких князей [8] Правда, в Ипатьевском списке рядом с Игорем фигурирует «всякое княжье»: «Мы — от рода русского послы и купцы... посланные от Игоря великого князя русского, и от всякого княжья, и от всех людей Русской земли». Но термин «княжье» сам по себе сомнителен и другим древнерусским памятникам неизвестен. Поэтому вместо выражения «от всякого княжья» следует читать «от всего княжения», как значится в Хлебниковском списке (см.: Никитин А.Л. Основания русской истории. С. 318). «Княжение» — распространенный летописный термин, означающий «верховное правление» (Фроянов И.Я. Начала русской истории. Избранное. СПб., 2001. С. 723). Кстати, его часто неправильно толкуют в территориально-политическом смысле, как «племенное объединение», «княжество». Но подобное значение «княжения» совершенно чуждо Повести временных лет, которая сообщает, что после смерти Кия, Щека и Хорива «держати почаша род их княженье в полях, а в деревлях свое, а дреговичи свое, а словене свое в Новегороде, а другое на Полоте, иже полочане». В договоре 944 г. «все княжение» — это следующие за Игорем представители власти: княжеская семья (Ольга, Святослав) и «бояре», которые, как будет показано ниже, также являлись членами великокняжеского рода.
, а властвует над «боярами» и «людьми Русской земли». Первый заключает договор в пользу «светлых князей» и торговой руси — послов и «гостей» из «русских градов»; второй отстаивает преимущественно торговые интересы своей семьи и «бояр», добиваясь для них права «посылать в Греческую землю к великим царям греческим корабли сколько хотят». Большинство «русских» городов его мнимого предшественника совершенно позабыты. В то время как Олег хлопочет за Киев, Чернигов, Переяславль, Полоцк, Ростов, Любеч и «прочаа грады», Игорь покровительствует всего трем городам Среднего Поднепровья: Киеву, Чернигову, Переяславлю — и все. При этом города, входящие в состав Оле-говой державы, в большинстве своем находятся в западнославянских землях, так как их восточнославянские двойники в начале X в., по археологическим данным, еще пребывали в статусе догородских поселений.
Не менее любопытно выглядит сопоставление текста обоих договоров в этой их части с данными современного византийского источника. Константин Багрянородный знает во «внешней Росии», которой правит князь Игорь, города: Киоаву (Киев), Немогард (?), Милиниски (Смоленск), Телиуцу (Телич), Чернигогу (Чернигов) и Вусеград (Вышгород); из них с перечнем Олеговых городов совпадают только Киев и Чернигов, хотя византийский император, несомненно, отметил самые крупные городские центры «внешней России» своего времени.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: