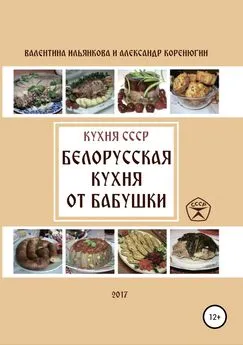Вильям Похлебкин - Кухня века
- Название:Кухня века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Полифакт. Итоги века
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-93-806-001-X
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вильям Похлебкин - Кухня века краткое содержание
Последняя, итоговая книга знаменитого кулинарного писателя Вильяма Васильевича Похлебкина, завершенная им за несколько дней до трагической гибели. Первое подробное исследование истории русской кухни в XX веке, дополненное главами об основных кухнях мира, кулинарными биографиями «великих едоков» столетия и титулованных поваров, а также о системах питания и эволюции кухонной утвари.
Кухня века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Этот нездоровый режим питания, не оказывавший, как ни странно, отрицательного воздействия на Сталина на протяжении четверти века, начал сказываться, когда Сталин стал стареть. Во-первых, из меню Сталина практически исчезли супы, поскольку обеды фактически превратились в ужины. Во-вторых, резкое смещение основного приема пищи к полуночи (22:00—23:00) оказалось серьезной нагрузкой как для пищеварительной, так и для сердечно-сосудистой и нервной системы. И эта нагрузка ничем не компенсировалась, поскольку Сталин уже не мог изменить этот ужасный режим.
Просыпаясь в полдень, он не хотел и не мог есть по крайней мере в течение двух-трех часов, после чего следовала лишь легкая закуска, настоящий аппетит так и не появлялся. Лишь в 17:00 ему обычно приносили чай с бутербродом, и «настоящий обед» автоматически передвигался на 20:00 или на 22:00—23:00. Такой режим становился опасным, так как ускорял процесс старения. Все это было бы еще не столь трагично, если бы у Сталина сократилась в связи с наступлением старости его рабочая нагрузка. Но он продолжал интенсивно заниматься всеми государственными делами. В последние годы нагрузка даже возросла в связи со сложной международной обстановкой. К тому же Сталин не прекращал работать и в области теории. Его работы по проблемам социалистической экономики относятся именно к этому периоду.
Правда, число участников полуночных застолий у Сталина в последние годы его жизни резко сократилось: соратники умирали или оказывались в опале. Но пять-шесть, самое меньшее три-четыре члена Политбюро вплоть до 1953 г. всегда разделяли позднюю трапезу Сталина. Из опасения, что его могут отравить, Сталин делал свидетелями своих застолий хотя бы тот оставшийся узкий круг людей, с которыми его связывали государственные интересы и которым он все более и более не доверял. Степень его недоверия и подозрительность зашли в последний год жизни очень далеко. Имеются свидетельства того, что были случаи, когда Сталин, запершись у себя в кабинете, лично готовил себе пищу на электроплитке. Это значит, что Сталин переживал тяжелейший психологический кризис. Он находился на грани нервного срыва чуть ли не месяцами. Вот почему наступивший 5 марта инсульт имеет естественное объяснение.
В отличие от Ленина, в честь которого созданы музеи, научно-исследовательские институты, а также изданы собрания сочинений, о Сталине, как это ни парадоксально при всем том «культе личности», который существовал при его жизни, современники знали гораздо меньше. Что же касается «сохранения памяти», то здесь история зло подшутила над Сталиным — более варварского уничтожения подлинных документальных материалов, касающихся его личности, не знал ни один другой государственный деятель его ранга. Ныне Стенфордский университет в США располагает более представительным собранием сталинских материалов, чем наша страна, где он жил, работал и которой руководил 30 лет.
Бытовая сторона жизни Сталина вообще не зафиксирована. В результате кулинарно-гастрономический обзор ленинского быта оказался более полным, более репрезентативным, чем то, что удалось собрать достоверного из этой области о Сталине.
Еще в 1965 г. К. И. Чуковский отмечал в своем дневнике, что описания быта Сталина в романах Солженицына весьма далеки от исторической правды. Александр Исаевич, вполне естественно, совершенно не знал этого быта и писал то, что хотел, и более того — то, что надо было ему из тенденциозных соображений. Но какая же это история?
В 30—40-х годах вообще бытовая сторона жизни как всего народа, так и отдельных государственных деятелей, разумеется, с точки зрения тогдашней официальной советской исторической науки, не имела никакого права на упоминание в истории. И это было чудовищным заблуждением.
В 50-х годах в обществе стал проявляться как раз бытовой интерес, даже тяга к общему обустройству быта, особенно к его пищевому, кулинарно-гастрономическому аспекту. Это было естественной реакцией после голодных военных и первых послевоенных лет. Тот же К. И. Чуковский, всю жизнь имевший широчайший круг знакомых среди советских и иностранных деятелей культуры, записывает в своем дневнике такие, например, события.
« 24 февраля 1947 г. На обеде по случаю годовщины со дня смерти Алексея Николаевича Толстого. Огромный стол ломится от яств. Гости — академик Майский, генерал Игнатьев, художник Кончаловский, скульптор Меркулов, писатели Федин, Шкловский и др.
<...> Март 1950 г. Пирушка по случаю присуждения Сталинской премии С. А. Макашину. Гости — „столпы литературоведения“. (О меню — ни слова, видимо, больше пили, не закусывая.)
<...> 30 июня 1951 г. В гостях у Е. В. Тарле. Великолепный обед с закусками, с пятью или шестью сладкими.
<...> 1 апреля 1952 г. Подарки на день рождения (70-летие К. И. Чуковского): ларец сладостей, коробка конфет, бутылка вина.
<...> 29 января 1954 г. Праздник у Збарских. Пирожки, пирожные („вот твое любимое с кремом“)».
Из этих скупых записей отчетливо видно, что в первые послевоенные годы люди, принадлежавшие к интеллектуальной элите советского общества, — писатели, ученые, артисты, — в отличие от первой половины 30-х годов, стали придавать серьезное значение действительно их занимавшим и интересовавшим жизненным удовольствиям, которые прежде считались невозможными и которые было даже неприлично афишировать.
Показательно также, что в дневнике К. И. Чуковского более позднего времени, то есть за 1956—1959 гг., уже не встречается ни одной записи гастрономического порядка — ни упоминания какого-либо обеда, ужина, праздничного застолья, ни фиксации названия какого-либо блюда, пищевого изделия, хотя в прошлые годы дневник пестрел такими пометками, как, например: «У Всеволода Иванова, блины» или «в санатории „Сосна“ испортил желудок при помощи дурацкого меню» (хотя содержание этого меню, к сожалению, не указано).
Во второй половине 50-х годов еда уже перестала быть темой, достойной упоминания, ибо не только стабилизировалось продовольственное положение, не только пропало ощущение новизны и важности сытой жизни, но главное заключалось в том, что 1956—1959 гг. — это годы интенсивного обновления общественно-политической и культурной жизни страны, и поэтому все внимание людей, в том числе и в сугубо личных записях для себя, было поглощено общественными, политическими событиями и вопросами, в число которых быт и особенно питание уже не входили!
Одной из отрицательных черт послевоенного советского времени Чуковский называет такое явление, как «изменившиеся люди», то есть люди, переменившие свои политические взгляды, свое мировоззрение с целью приспособиться к новым общественным условиям. Чуковский несколько мягок в своих формулировках и оценках: «Сурков весь изменился на 180°. Удивляют меня эти люди — „изменившиеся“». Но подмечено верно. Можно было бы назвать это резче. Ведь после войны последовало несколько таких «изменений»: в 1956 г. сталинисты «превратились» в либералов, в 1964 г. верные последователи Хрущева — в брежневистов, в 1985 г. — не менее резкий переход брежневских клевретов в лагерь убежденных сторонников Горбачева, и в 1991 г. — тотальное отречение от горбачевской политики «нового мышления».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: