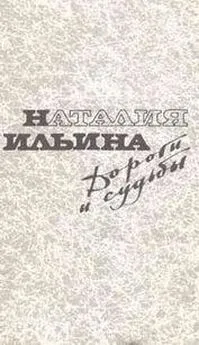Наталия Ильина - Изгнание норманнов из русской истории. Выпуск 1
- Название:Изгнание норманнов из русской истории. Выпуск 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русская панорама
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-93165-203-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталия Ильина - Изгнание норманнов из русской истории. Выпуск 1 краткое содержание
В сборнике представлены монографии и статьи русских историков разных поколений — кроме новых исследований публикуются также работы русских историков, составивших золотой фонд отечественной исторической науки. В публикуемых работах затрагиваются практически все аспекты сложнейшего и столь важного для русской исторической науки варяго-русского вопроса и показываются истинные истоки Руси, тенденциозно трактуемые норманистами. Для специалистов и всех, кто интересуется родной историей.
Изгнание норманнов из русской истории. Выпуск 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В 1872 г К Н Бестужев-Рюмин в «Введении» к «Русской истории», посвященном анализу источников и историографии, представил немецких ученых И X Коля Г 3 Байера, Г. Ф. Миллера - «первоначальниками» нашей исторической науки. Характеризуя Байера как «ученый глубокий, критик проницательный», отметил вместе с тем, что он «по какой-то странной прихоти не хотевший выучиться по-русски и потому в трудах своих ограничивавшийся по большей части тем периодом, в котором мог основываться на писателях иноземных (вопросами о скифах, варягах, о древней географии по Константину и скандинавам); но делавший крайне грубые ошибки, когда касатся русских источников: Москву он производил от мужского монастыря. Тем не менее Байером высказаны главные доказательства, которыми до сих пор пользуются ученые скандинавской школы».
Говоря затем, что «еще более для русской науки сделал» Миллер, «строгии и точный в своих научных работах», показавший «опыт обработки многих вопросов русской истории», Бестужев-Рюмин назвал его «настоящим отцом русской исторической науки». Хотя Ломоносов и «оставил свои следы и в науке русской истории», но его «Древняя Российская история», продолжал он далее, «более любопытна с литературной, чем с научной стороны, что и понятно по свойству занятий Ломоносова, но представляет умные замечания», и что «его прения с Миллером о происхождении руссов имели основою раздражение патриотическое, а не глубокое знание источников». Отдавая первое место между русскими историками того времени Татищеву, Бестужев-Рюмин констатировал: «К сожалению, источники Татищева не все дошли до нас, и потому нередко он подвергался обвинениям в подлоге, впрочем совершенно неосновательным... ...Но требует осторожности в пользовании известиями, которые встречаются только у него» (Болтина, по его словам, «можно упрекнуть, конечно, в излишнем пристрастии к Татищеву; но это дань веку, еще не освоившемуся с правилами исторической критики»).
Шлецер, считает он, первым «занялся критическою обработкою русских летописей, вследствие чего его «Нестор» пользовался долго особым уважением у всех писавших по русской истории, хотя нельзя не признаться, что его мысль о сводном издании летописи произвела довольно большую путаницу в наших изданиях, а его взгляд на древнюю Русь, как на страну ирокезов, куда только немцы внесли свет просвещения, представил русскую историю в ложном свете». Подчеркнув, что мнение Шлецера о происхождении названия Швеции Ruotsi от общины гребцов Rodslagen упорно держится в науке до сих пор, выразил полное несогласие с ним: что едва ли название народа происходит от «общины гребцов» и что «как-то странно допустить, чтобы скандинавы сами называли себя именем, данным им финнами». Сенковский, указывал Бестужев-Рюмин, в предисловии к Эймундовой саге «высказал несколько парадоксальный взгляд на отношения Скандинавии к России».
Видя в Венелине основателя славянской школы, историк заключил, что он «человек начитанный, высокодаровитый, но, к сожалению, лишенный правильной ученой подготовки и увлекавшийся необузданною фантазиею, более приличною поэту». Нередко фантазией был увлечен и Морошкин, но при этом высказывавший «блестящие воззрения и догадки, под влиянием чисто русского, хотя и инстинктивного понимания». Бестужев-Рюмин, распределив точки зрения о происхождении варягов по трем группам - скандинавы, южнобалтийские славяне, «сбродная» дружина, перечислил главные доказательства норманской школы: «рос»-«свеоны» Вертинских анналов, скандинавские имена многих русских князей и дружинников, «русские»-«скандинавские» названия днепровских порогов, сближение варягов с византийскими «варангами» и «верингами» Снорри Стурлусона. И высказал свое твердое убеждение в том, что главная заслуга славянской школы состоит в отделении руси от варягов и в мнении, считавшем Русь исконным названием Руси южной[237].
В начале 1870-х гг. П. П. Пекарский в привычном для нашей историографии духе четко проводил мысль, что Ломоносов (а вместе с ним русская часть Академии наук в лице Н. И. Попова и С. П. Крашенинникова) выступил против диссертации Миллера «не с научной точки зрения, но во имя патриотизма и национальности» (в «отзыве о речи своего личного врага преимущественно руководствовался патриотическим воззрением» и защищал мнение Синопсиса об этносе варягов). Тогда как эта диссертация, уверял ученый, «при всех ее недостатках, замечательна в нашей исторической литературе как одна из первых попыток ввести научные приемы при разработке русской истории и историческую критику, без которой история немыслима как наука». Хотя, как при этом им было сказано, неблагоприятный отзыв на труд Миллера дало большинство академиков. Шлецер, на его взгляд, был самого неуживчивого и сварливого характера и чрезвычайно высокого мнения о самом себе и своих знаниях, «с презрением» относился к грамматическим и историческим трудам Ломоносова.
Характеризуя статью Байера «О варягах», также традиционно констатировал, что в ней «впервые высказаны положения, составляющие до ныне краеугольный камень так называемой норманской системы о происхождении Руси». Но ее, написанную на латыни, наверное «никто не читал в России за исключением одного Татищева». Вместе с тем Пекарский отмечал, что, во- первых, он, зная многие языки, даже не принялся за изучение русского языка, т. к. не думал, что это ему когда-нибудь может пригодиться, во-вторых, что Байер и Шлецер защитили диссертации по богословию, соответственно по крестным словам Иисуса Христа и «О жизни Бога», в-третьих, что Миллер прибыл в Россию, не имея законченного университетского образования и совершенно не помышляя о науке вообще и истории, в частности, т. к. пределом его мечтаний, как он сам же признавал, была только служебная карьера - сделаться зятем Шумахера и его должности, в-четвертых, что Байер, Миллер, Шлецер до своего приезда в Петербург никогда не занимались русской историей и ничего не знали из нее[238] (т. е., как вытекает из сказанного, они стали приобщаться к ней только в России и только в той мере, в какой овладевали, понятно, русским языком).
И. В. Лашнюков в «Очерке русской историографии», вышедшем в 1872 г., утвердительно говорил о том, что «наука русская история возникает в XVIII веке в трудах академиков-немцев», что исследования русских историков той же поры «не более, как свод перифразис неразработанного материала с очень слабым осмыслением отдельных фактов и явлений русской истории», и что они «не представляют науки в настоящем смысле этого слова». Но при этом им было подчеркнуто, что в трудах Татищева и Ломоносова «более замечается научных тенденций и яснее высказался современный взгляд на русскую историю», что первый не позволял себе перерабатывать материал по своему усмотрению и перифразировать летописные известия, как это делалось в XVIII и отчасти в XIX столетии, что в его «Истории Российской» видна попытка подвергнуть критике источники и отдельные сообщения, и что она имеет важное значение в наше время, т. к. ею пополняются многие пробелы и темные места в летописях.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: