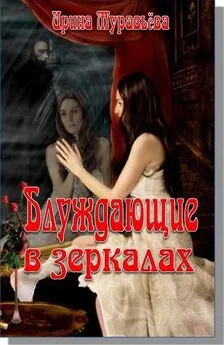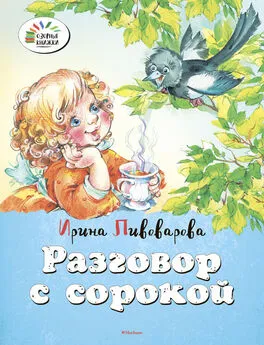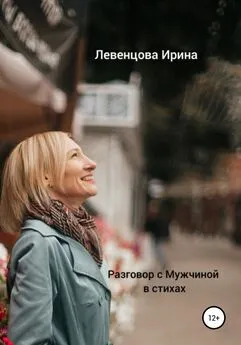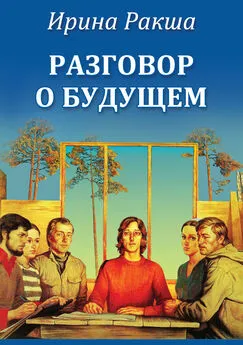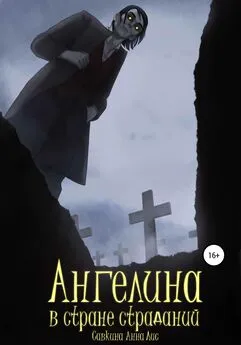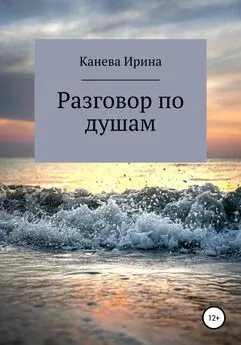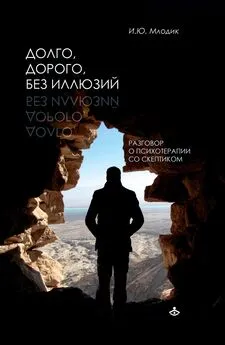Ирина Савкина - Разговоры с зеркалом и Зазеркальем
- Название:Разговоры с зеркалом и Зазеркальем
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-505-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Савкина - Разговоры с зеркалом и Зазеркальем краткое содержание
В русской культурной истории было немало женщин, которые сумели высказать и выразить себя в автодокументальных текстах (воспоминаниях, дневниках или письмах), большая часть которых была опубликована при их жизни или позже. И все же голоса этих женщин остались неуслышанными. Их тексты практически никогда не становились предметом научного интереса сами по себе, а не в качестве исторических или литературных источников для биографий знаменитых мужчин. Цель данной книги — рассмотреть, как женщины первой половины XIX века в своих дневниках, воспоминаниях и письмах пишут о себе, точнее, «пишут себя», как они обсуждают и создают приемлемые для себя модели женственности. Материалом исследования послужили среди других дневники А. Керн, А. Якушкиной, А. Олениной, мемуары Н. Дуровой, автобиография Н. Соханской, переписка Натальи Герцен с А. Герценом, Г. Гервегом и подругами.
Разговоры с зеркалом и Зазеркальем - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Не только в монографиях Л. Гинзбург, но и в написанных в 1970-е годы диссертационных исследованиях (см., напр.: О. Белокопытова; Г. Елизаветина; Е. Иванова; Р. Лазарчук; И. Смольнякова; Е. Фрич [66] См. библиографию.
) и в некоторых статьях так называемой «московско-тартуской школы» [67] Александрова Т. и др. Жанровые и текстовые признаки мемуаров // Поэтика. История литературы. Лингвистика: Материалы XXII научной студенческой конференции. Тарту 1967. С. 127–133; Паперно И. А. Переписка как вид текста. Структура письма // Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам, 1 (5). Тарту, 1974. С. 214–215; Паперно И. А. Об изучении поэтики письма // Ученые записки Тартуского ГУ. 1977. Т. 420. Метрика и поэтика. Вып. 2. С. 105–111.
в изучении русских автодокументальных текстов XVIII–XX веков теоретический и методологический интерес сдвигается к проблеме автора и его текстовых репрезентаций.
Но в то же время Гаррис безусловно права, замечая, что ни Л. Я. Гинзбург, ни другие советские исследователи практически не используют (в отличие от западных коллег) термин автобиография, предпочитая пользоваться понятиями документальная, невымышленная или мемуарно-автобиографическая литература.
Это, на мой взгляд, вызвано рядом довольно существенных причин.
Первая, которую затрагивает и Гаррис, связана, если так можно сказать, с русской ментальностью или с особенностями русской культурной традиции, которая не делает такого акцента на индивидуализме и персональности, как общеевропейская.
Мысль о том, что коллективность, долевая, разделенная идентичность характерна для русской ментальности, является общим местом в рассуждениях о национальном характере. Например, Б. Егоров в статье «Русский характер» замечает, что «наиболее сильное идеологическое, „ментальное“ воздействие на русский народ в течение многих веков оказывали четыре фактора: православная религия, крепостное право, обширное монархическое государство-империя, „деревенскость“, то есть малое количество городов» [68] Егоров Б. Ф. Русский характер // Из истории русской культуры. М.: Языки русской культуры, 1996. Т. V (XIX век). С. 52.
. Далее автор статьи развивает мысль о том, что «общинно-общественный уклад русской жизни, усиленный христианскими правилами, порождал представление о превосходстве целого-общего над индивидуальным-частным. Как всегда, и эта сторона жизни и мировоззрения нашла отражение в нашем языке. Не „я хочу“, а „мне хочется“, не „мое имя такое-то“, а „меня зовут так-то“. Вроде бы какая-то внешняя, чуть ли не божественная сила управляет нашей личностью <���…>. По-русски не очень-то прилично „якать“» [69] Там же. С. 55–56.
.
Эта особенность, вероятно, сильно влияла на автобиографический дискурс. Действительно, русским автодокументальным текстам (по крайней мере, прошлого века и советского периода) свойственно представлять Я как частицу, репрезентацию какого-нибудь МЫ. Уже из тех нескольких примеров, которые приводит в своей статье Егоров, можно видеть, что автору, решившемуся на самоописание, приходилось как-то обходить или трансформировать конвенции языка, которые табуировали многие формы «ячества» (интересно, что и теперь еще в русском языке нет соответствий важным для автобиографического дискурса английским словам self, selfhood ). Тоби Клайман и Джудит Вовлес также замечают, что в русской традиции существует определенная подозрительность к прямой саморепрезентации: выставить себя публично, подобно Руссо в «Исповеди», «представляется невозможно эгоистическим, признаком самолюбования и самопрославления» [70] Clyman Т. W., Vowles J. Introduction. In: Russia through women’s eyes: Autobiographies from Tsarist Russia / Ed. by Toby W. Clyman and Judith Vowles. Haven; London: Yale University Press, 1996. P. 4.
. Шейла Фитцпатрик, обсуждая автотексты советских женщин, также отмечает, что в них почти отсутствует интимное, приватное, связанное с межличностными отношениями, семьей, интимными чувствами, сексуальностью. Это скорей не исповеди, а свидетельские показания о прошлом [71] См.: Fitzpatrick Sh. Lives and Times. In the Shadow of Revolution: Lifestories of russian Women from 1917 to the Second World War. Ed. by Sheila Fitzpatrick and Yuri Slezkine. Princenton University Press, 2000.
.
С другой стороны, в контексте «общинной традиции» подчеркнутые, преувеличенные фигуры скромности и самоумаления могли стать инвенсированным средством «ячества» (то, что выражается поговоркой «самоуничижение паче гордости»).
Далее, говоря о патриархальном, деревенском, крестьянском укладе русской жизни, Б. Егоров замечает, что для этого модуса жизни свойственно «циклическое время, регулярное повторение суток, лунного месяца, времен года. Именно циклическое время усиливало неподвижность и традиционализм. <���…> Цикличность и традиционализм фактически уничтожали всматривание в будущее и оглядки в прошлое. <���…> Это стирание времени ослабило историческую память, память о прошлом» [72] Егоров Б. Ф. Указ. соч.
.
Вероятно, факторы, подобные названному, определили более позднее развитие автодокументальных жанров в русской литературе.
А. Г. Тартаковский отмечает, что такие традиционные черты русской (древнерусской) культуры, как коллективность сознания, которая в новое (петровское и постпетровское) время поддерживалась пропагандой со стороны власти принципа государственного (коллективного) служения, и анонимность, свойственная, например, летописному повествованию, — эти черты в определенной мере продолжали влиять и в «новое время» на мемуаристов и автобиографов [73] См.: Тартаковский А. Г. Указ. соч. С. 9–10. См. также главы 2 и 3.
. Они сделали необходимой ту борьбу за внедрение в сознание современников идеи «исторического предания», которую предпринимали некоторые литераторы первой половины XIX века, прежде всего Вяземский и Погодин.
С другой стороны, причины «нелюбви» русских исследователей к термину «автобиография» вызваны и его жанровой неопределенностью. Автобиография — термин, используемый для обозначения делового документа, это нечто вроде Curriculum vitae. Как объясняет автор написанной в советское время статьи, «она нужна для поступления в вуз, на службу, в общественную или творческую организацию, для поездки за границу…» [74] Урбан А. Художественная автобиография и документ // Звезда. 1977. № 2. С. 193.
. Таким образом, за этим словом закрепилось очень деловое, формализованное и идеологизированное значение. Автобиография — это доказательство собственной идеологической полноценности, соответствия стандарту «советского человека» (родная сестра автобиографии — анкета, в которой еще в средине 1980-х годов были вопросы о социальном происхождении и родственниках за границей). В этом своем качестве автобиография была в принципе деперсонализированным текстом [75] Об особенностях «Я» в советских «официальных» женских автобиографиях см.: Liljeström М. The Remarkable Revolutionary Woman: Rituality and Performativity in Sovijet Women’s Autobiographical Texts From the 1970s // Models of Self. Russian Women’s Autobiographical Texts / Ed. by Marianne Liljestrom, Arja Rosenholm and Irina Savkina. Helsinki: Kikimora, 2000. P. 81–100.
.
Интервал:
Закладка: