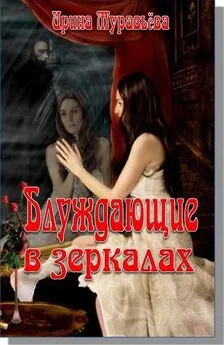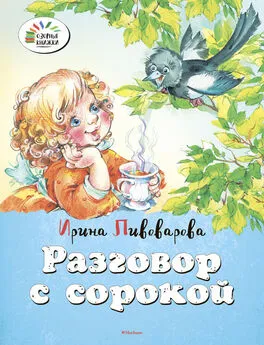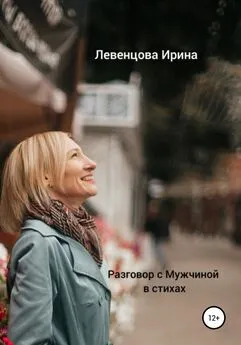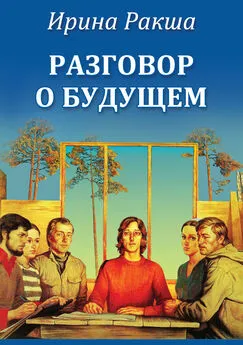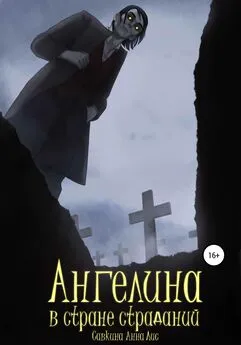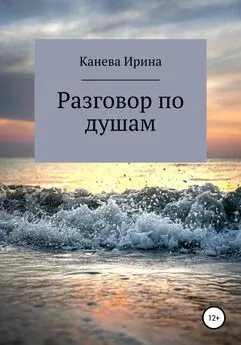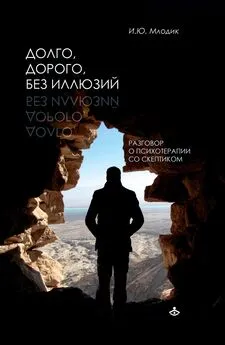Ирина Савкина - Разговоры с зеркалом и Зазеркальем
- Название:Разговоры с зеркалом и Зазеркальем
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-505-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Савкина - Разговоры с зеркалом и Зазеркальем краткое содержание
В русской культурной истории было немало женщин, которые сумели высказать и выразить себя в автодокументальных текстах (воспоминаниях, дневниках или письмах), большая часть которых была опубликована при их жизни или позже. И все же голоса этих женщин остались неуслышанными. Их тексты практически никогда не становились предметом научного интереса сами по себе, а не в качестве исторических или литературных источников для биографий знаменитых мужчин. Цель данной книги — рассмотреть, как женщины первой половины XIX века в своих дневниках, воспоминаниях и письмах пишут о себе, точнее, «пишут себя», как они обсуждают и создают приемлемые для себя модели женственности. Материалом исследования послужили среди других дневники А. Керн, А. Якушкиной, А. Олениной, мемуары Н. Дуровой, автобиография Н. Соханской, переписка Натальи Герцен с А. Герценом, Г. Гервегом и подругами.
Разговоры с зеркалом и Зазеркальем - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В случае «традиционного» non-fiction текста один из способов отличить вымышленного автора, героя, автора/героя от реального — это возможность референции, то есть удостоверения личности другими, внетекстовыми способами. Но как проверить и отследить авторов интернет-дневников в случае, если они пишут под псевдонимами-никами? Один и тот же человек может писать под разными псевдонимами одновременно или менять их последовательно. Интернет-пространство становится полем абсолютной мистификации — оно насквозь текстуально и «фиктионально». Значит ли это, что проблема референции снята и заменена чем-то принципиально иным, или это значит только то, что изменились способы референции?
Чтобы обсуждать и решать подобные «проблемы будущего», которые стремительно оказываются проблемами «настающего настоящего» (выражение М. Бахтина), нужно иметь какие-то точки отсчета.
Мне представляется, что изучение истории автодокументальных жанров, в том числе и того материала, о котором пойдет речь в этой книге, поможет в какой-то степени понять, что происходит с нами, здесь и сейчас, какие разговоры мы ведем с зеркалами — в том числе с зеркалом-экраном нашего компьютера.
Однако я должна признаться, что для меня самой в этой книге важны не только научные проблемы, но и живые женские истории, женские голоса, заглушенные временем и пренебрежением патриархальной академической традиции. Я хочу, чтоб они были услышаны.
ВВЕДЕНИЕ
Как уже отмечалось, материалом данного исследования будут женские письма, дневники и воспоминания, написанные в России в первой половине XIX века. Для обозначения совокупности этих текстов я буду использовать термин женские автодокументальные жанры (женские автодокументы) [7] Это словосочетание, не придавая ему терминологического значения, использовал критик А. Урбан. См.: Урбан А. Автодокументальная проза // Звезда. 1970. № 10. С. 4–77. Его же. Художественная автобиография и документ // Звезда. 1977. № 2. С. 203. Конечно, избранный мною термин не единственно возможный. Магдалена Медарич предлагает, например, в этой ситуации использовать термин «автореференциальные тексты» (см.: Медарич М. Аатобиография/Автобиографизм. // Автоинтерпретация / Под ред. А. Б. Муратова и Л. А. Иезуитовой. СПб.: Изд-во СПГУ, 1998. С. 7); Н. Пушкарева пользуется термином «эгодокументы» ( Пушкарева Н. Л. У истоков женской автобиографии в России // Филологические науки. 2000. № 3. С. 62–69).
, понимая под «автодокументальными» такие тексты, которые «настаивают» на своей референциальности, соотнесенности с реально бывшим, причем эта «установка на подлинность» создается в первую очередь за счет «удостоверения авторской подписи», референциальности авторского Я, субъекта эпистолярного, дневникового или мемуарно-автобиографического дискурса [8] Подробнее обо всем вышесказанном речь пойдет ниже, в главе, посвященной теории.
.
Интересующий меня материал только в самые последние годы попал в «зону видимости» русской литературоведческой традиции, до этого же подобные тексты находились в позиции тройной маргинальности.
Во-первых, в качестве автобиографической литературы, которая со времен Белинского имеет статус «пограничного» жанра [9] Я имею в виду часто цитируемое высказывание Белинского о том, что «mémoires — последняя грань в области романа» (см.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М.: АН СССР, 1958. Т. X. С. 316).
и исследователи которой должны каждый раз приводить свидетельства о ее «законнорожденности» и праве присутствовать в приличном обществе прочих узаконенных литературных жанров.
Во-вторых, в качестве женских текстов, «второсортность» и сомнительность которых «очевидна» для патриархатной критики [10] О том, с помощью каких аргументов и в какой форме происходило вытеснение женщин из канона или, точнее, невключение их в канон, см., напр.: Russ J. How to Suppress Women’s Writing. Austin, 1983; Хайденбранд P. фон, Винко С. Работа с литературным каноном: Проблема гендерной дифференциации при восприятии (рецепции) и оценке литературного произведения // Пол. Гендер. Культура / Под ред. Элизабет Шоре и Каролин Хайдер. М., 2000. Вып. 2. С. 72–80; Шоре Э. Женская литература XIX века и литературный канон. К постановке проблемы // Пером и прелестью. Женщины в пантеоне русской литературы. Ополе: Опольский ун-т, 1999. С. 95–104; Савкина И. Пути, переулки и тупики изучения истории русской женской литературы // Женский вызов: русские писательницы XIX — начала XX века / Под ред. Е. Строгановой и Э. Шоре. Тверь: Лилия-Принт, 2006. С. 11–27.
.
И наконец , русские женские автобиографии — «бедные родственницы» в том смысле, что? в отличие от своих западных сестер по жанру, они относительно редко становились предметом исследовательского интереса [11] Конечно, некоторые работы на эту тему существуют, например статьи и книги, авторами которых являются О. Демидова, И. Кабанова, М. Balina, Т. Clyman, S. Fitzpatrick, G. Goes, J. G. Harris, B. Heldt, H. Hoogenboom, B. Holmgren, C. Isenberg, C. Kelly, M. Liljestrum, S. Pratt, A. Rosenholm, M. Rytkonen, J. Vowels, M. Zirin и др. (см. библиографию).
. Как справедливо отмечает Барбара Хельдт, в русской автобиографической традиции, заметно озабоченной социальными и политическими проблемами, воспоминания женщин, которые не сделали общественной карьеры или не были связаны с социально значимыми мужчинами, практически неизвестны, не выделены в архивах и не учтены в библиографиях [12] См.: Heldt Monter В. Terrible Perfection.Women and Russian Literature. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1987. P. 64.
.
Одной из главных причин упомянутой маргинализации и автодокументальных, и женских текстов является, на мой взгляд, влиятельность для русской культурной и литературоведческой традиции концепции Великого канона, идеи великой и настоящей Литературы, где акцентировано представление о персональной и жанровой «табели о рангах». Даже активные усилия напористых теоретиков и практиков постмодернизма на русской почве, кажется, почти не смогли поколебать укоренившегося со времен Белинского убеждения, что «роман — эпос нового времени» [13] См: Белинский В. Г. Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова или „Мертвые души“» // Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М.: АН СССР, 1955. Т. 6. С. 254.
занимает в этой иерархии «генеральское» место, а все остальные жанры располагаются пониже, каждый на соответствующей ступени иерархической лестницы.)
Несмотря на то что в последние десятилетия интерес к автодокументальной литературе (мемуарам, автобиографиям, дневникам, письмам и т. п.) растет — как со стороны читателей, так и со стороны критики и науки [14] Альфред Хорнунг пишет, что только в США в течение 80-х годов! было опубликовано более ста монографий, посвященных автобиографическим жанрам (см.: Horrtung A. Autobiography. In: International Postmodernism:) Theory and Literary Practic / Ed by Hans Bertens, Douwe Fokkema. Amsterdam:) Benjamin, 1997. P. 221).
, — все же с точки зрения Великого канона эти жанры находятся за его пределами или, в лучшем случае, на границе. По крайней мере русские исследователи [15] Так обстоит дело не только в России. Например, немецкий исследователь Алмут Финк замечает, что даже в «золотые времена» «никто не занимался автобиографией как литературным жанром. Автобиографические жанры не считались литературой» ( Finck A. Subjektbegriff und Autorschaft: Zur Theorie und Geschichte der Autobiographie // Einführung in die Literaturwissenschaft / Hg. von Miltos Pechlivanos (et al.) Stuttgart, Weimar, 1995. S. 283). См. также эссе Филиппа Лежена «Сто лет борьбы с автобиографией» (Иностранная литература. 2004. № 4. С. 110–115).
текстов такого типа постоянно должны возвращаться к «остро стоящему вопросу» — «о возможности применения к мемуарно-автобиографической литературе критериев художественности» [16] Елизаветина Г. Г. «Былое и думы» А. Герцена и русская мемуаристика XIX века. Автореф. дис. … канд. фил. наук. М., 1968. С. 4.
и считать необходимым как-то реабилитировать свой материал и оправдать перед лицом литературоведческого истеблишмента свое право заниматься, по выражению Е. Фрич, исследованием «фактов словесной культуры, лежащих вне „большой литературы“, но оказывающихся как бы ее жизненным подслоем» [17] Фрич Е. Ф. Начало пути Л. Н. Толстого и документальная автобиографическая проза конца XVIII — первой половины XIX века. Автореф. дис. … канд. фил. наук. М., 1976. С. 4.
.
Интервал:
Закладка: