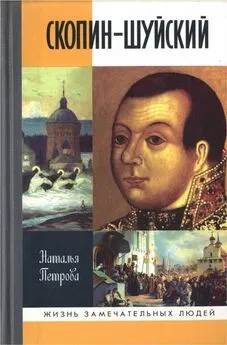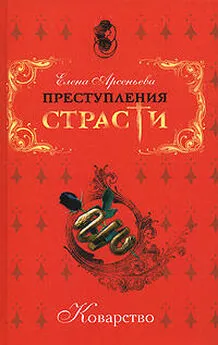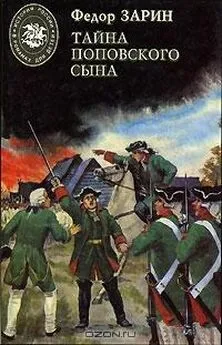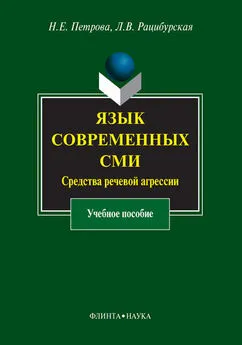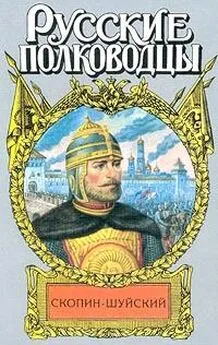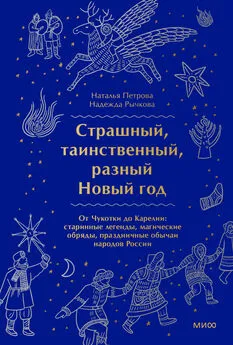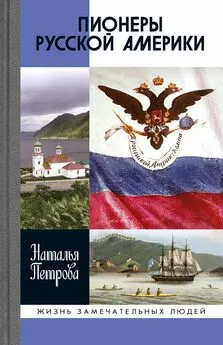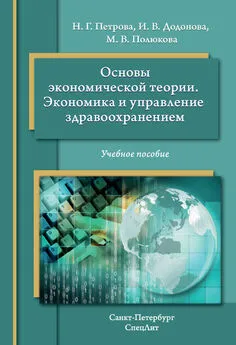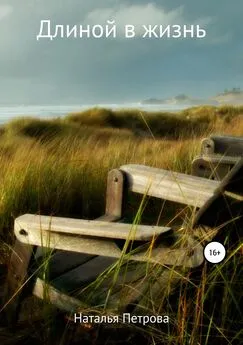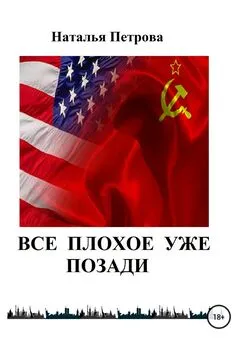Наталья Петрова - Скопин-Шуйский
- Название:Скопин-Шуйский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03328-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Петрова - Скопин-Шуйский краткое содержание
В череде злодейств и предательств, которыми так богата история Смутного времени начала XVII века, князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский (1586–1610) являет собой один из немногих образцов доблести и чести. Замечательный полководец и умелый дипломат, он сумел очистить Московское государство от сторонников Тушинского вора, и в марте 1610 года — за два с половиной года до подвига Минина и Пожарского! — Москва с ликованием встречала его как своего избавителя. Князь пользовался всеобщей любовью, и кто знает, как повернулась бы история России и скольких бед и несчастий можно было бы избежать, если бы молодой и полный сил воевода, которому не исполнилось и двадцати четырех лет, не умер бы от загадочной и страшной болезни, по слухам отравленный завистниками, своими родичами, не желавшими делиться с ним властью… Автор книги, предлагаемой вниманию читателю, с нескрываемой любовью пишет о своем герое, воссоздавая историю его жизни на фоне драматических и трагических событий, происходивших тогда в России и за ее пределами.
Скопин-Шуйский - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Другим любимым развлечением были кулачные бои. Встречались для поединков и один на один, и стенка на стенку, когда выходили бороться целой улицей или слободой. Эти потасовки рассматривали не как способ сведения счетов, а скорее как соревнование, прививавшее умение держать удар. Проходили кулачные бои, как и штурм снежной крепости, зимой, — чтобы снег смягчал возможное падение от удара. Кулачные бои приучали молодых людей не только к выносливости; поговорка «лежачего не бьют» сохранила нам память о суровых мужских забавах, которые давали одновременно и уроки справедливости [53] Рабинович М. Г. Очерки этнографии русского феодального города. М., 1978. С. 160–163.
.
Современники описывали молодого Михаила как человека огромного роста и богатырского сложения, имевшего талант полководца. Такие природные данные в одночасье не возникают, физическая крепость формируется, как и характер, неустанными упражнениями. Одно лишь сидение за столом с ложкой вряд ли сложило бы такой яркий облик Михаила, запомнившийся всем, знавшим его. Поэтому можно смело представить, как Михаил вместе со сверстниками не только наблюдал за зимними играми, но и принимал в них живейшее участие: таскал глыбы снега для крепости, хлестал прутьями коней, пытавшихся взять крепость, лепил снежки и руководил такими же, как и он, мальчишками в кулачных боях. Так в мирных забавах лепился характер будущего полководца.
Отрочество
Когда дитя достигало семи лет, детство оканчивалось, наступало отрочество. С этого времени отрока учили грамоте. Особой чертой Михаила его биограф называет прилежание «к книжному учению». Знание, или «книжность», в России приветствовалось, ибо княжескому отроку предстояло повелевать людьми, а мудрость приходила не только из собственного или отцовского опыта, но и из чужого, накопленного столетиями, — такой опыт черпали прежде всего в книгах. Недаром летописец сравнивал книги с реками, «наполняющими вселенную», в них находили и утешение, и «неисчислимую глубину».
В Средневековье среди сильных мира сего встречалось немало людей, знавших несколько языков и любивших читать. Среди книжных людей древней Руси летописцы называли князя Владимира Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Ярослава Галицкого Осмомысла, Владимира Волынского, Константина Ростовского. Отец Владимира Мономаха князь Всеволод выучил пять языков, отчего ему, по словам сына, и «честь есть от инех земель».
После более чем двухвекового монголо-татарского ига книжность, как и вся русская культура, пришла в упадок. Число образованных людей даже среди власть имущих было невелико: князь Дмитрий Донской, к примеру, был неграмотным. Встречались и среди священников не умеющие прочесть даже Священное Писание. Новгородский архиепископ Геннадий по этому поводу сокрушался: «А се приведут ко мне мужика, и язъ велю ему Апостол дати чести, а он не умеет ни ступити; и язъ ему велю Псалтырю дати, и он и по тому одва бредет; и язъ его оторку (откажусь от него. — Н. П.), и они изветъ (оправдание. — Н. П..) творят: „земля, господине, такова, не можем добыта, кто бы горазд грамоте“; ино ведь то всю землю излаялъ (подыскивал. — Н. П..), что нет человека в земле, кого бы избрати на поповство» [54] Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XV–XVII вв. Т. 1.4. 2. М., 2000. С. 140.
.
Во второй половине XVI века происходят изменения в лучшую сторону. В 1563 году Иван Федоров по указу Ивана IV и при содействии митрополита Московского Макария начинает печатать первую книгу — «Апостол». Борис Годунов поощрял образованность и даже послал первых учеников за границу обучаться языкам и прочим наукам. В XVI столетии образцом начитанности можно назвать царя Ивана IV, который был известен и как владелец огромной библиотеки. Книжными людьми называли архиепископа Новгородского Геннадия и преподобного Иосифа Волоцкого, в кругу которых в конце XV века был создан первый полный свод Библии на русском языке. Ко времени рождения Михаила Скопина в России уже читали не переписанное от руки, а напечатанное на станке Священное Писание. Хранилось оно и в доме Скопиных.
Важно отметить, что в сознании русских людей того времени «книжность» епископов, князей, горожан вовсе не была синонимом той «книжности» догматиков и толкователей, о которой говорится в Евангелии. «Книжными» именовали тех, кто имел пристрастие к чтению, заказывал переписчикам книги, собирал библиотеки, сам составлял рукописные книги. Таких, судя по скупому перечню имен, названных летописцами, было немного [55] Иннокентий (Просвирнин), архим. Блаженны чистые сердцем. М., 2008. С. 82–83.
.
С печатанием книг в России множатся азбуки и арифметики, составляются карты-схемы Российского государства, появляются школы и училища в стране. Художник Н. Ф. Некрасов отразил черту той эпохи, написав картину «Борис Годунов рассматривает карту, по которой учится его сын». На столе перед царевичем Федором «яблоко» — глобус, в руках «кружало», как называли тогда циркуль, которым царевич измеряет расстояние по разложенной перед ним карте. За спиной юного царевича стоит Борис Годунов, наблюдая за успехами наследника.
Вполне возможно, что обучение Михаила Скопина, бывшего ровесником царевичу Федору (разница в возрасте у них составляла всего три года), проходило так же. Вот только отец уже не руководил его обучением и не мог порадоваться успехам сына — он скончался в 1595 году, едва Михаил достиг восьми лет: «Преставися в лето 7103, в Суздале граде погребают и ко гробом прародитель и родитель своих прилагают его и достойное надгробное пение и учреждение устроившее. Сему же отрочате младу осмолетну сущи отеческая любви разлучившуся остася» [56] «О рожении князя Михаила Васильевича». С. 379.
. Князя Василия Федоровича Скопина-Шуйского погребли в родовой усыпальнице в Суздале, вместе с его предками. Перед кончиной он принял постриг с именем Иона [57] Иконников В. С. Указ. соч. С. 105.
.
Как будто в утешение оставшемуся без отца ребенку, Господь, по замечанию автора «Повести о рожении», дает «быстроту разума», отчего тот легко «приемлет учение книжное» [58] «О рожении князя Михаила Васильевича». С. 379.
. Книжное обучение с момента появления христианства на Руси имело единственную цель — чтение Священного Писания и понимание богослужебных книг. Начиналось обучение Михаила приглашенным для него учителем с азбуки: сначала мальчик выучил буквы, потом слоги двух- и трехбуквенные. Чтобы облегчить запоминание букв, учитель записал для него известную всем в то время азбучную молитву. Написана она была акростихом, — каждая строка стиха начиналась с соответствующей буквы азбуки:
Интервал:
Закладка: