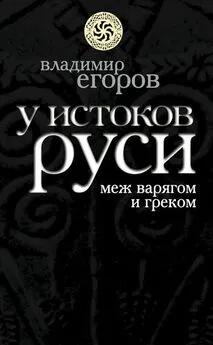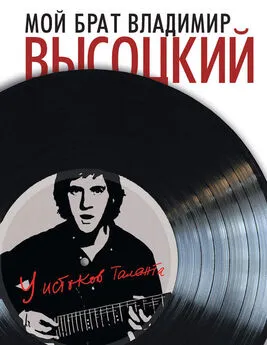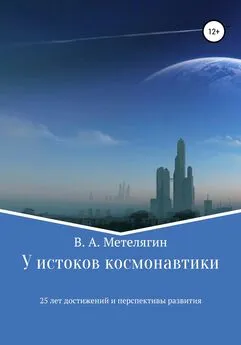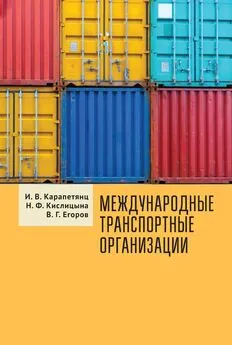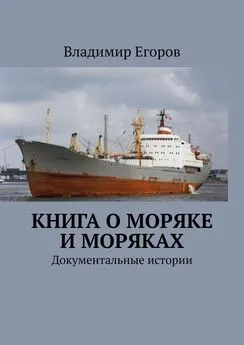Владимир Егоров - У истоков Руси: меж варягом и греком
- Название:У истоков Руси: меж варягом и греком
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Эксмо»334eb225-f845-102a-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:2010
- Город:М.:
- ISBN:978-5-699-39871-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Егоров - У истоков Руси: меж варягом и греком краткое содержание
Официальная трактовка возникновения Киевской Руси и зарождения русского народа, восходящая к так называемой Начальной летописи, неоднократно подвергалась и продолжает подвергаться критике. Данная книга – не просто очередная критика летописной традиции, «официальной» версии становления русской государственности, но попытка дать ответ на вопрос: откуда ты, Русь? Она будет интересна как массовому читателю, которому небезразлична древняя история его страны и его народа, так и специалистам, преподавателям, учащимся.
У истоков Руси: меж варягом и греком - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Между тем, принятое выше допущение об истинном характере и объеме «Повести» Нестора позволяет и в этом случае найти разумное объяснение. Оно заключается в том, что Сильвестр редактировал, а возможно, что и сводил из нескольких летописей, полученных из Печерского монастыря, именно «летописец», то есть целостную летопись, доводя ее, возможно с вменяемыми ему правками, до времени правления Мономаха. Нельзя исключить, что при этом он расставил в тексте годовые маркеры, хотя доказательств этого у нас нет. Зато весьма вероятно, что именно им в начало скомпонованного «летописца» была вставлена в качестве хорошего зачина «Повесть» Нестора. Если это так, то скорее всего самому Сильвестру, когда он вставлял «Повесть» в начало своего «летописца», честно сохраняя имя Нестора как автора этого отрывка, в голову не пришло, что потомки на основании этого из порядочности не убранного им представления автора введения весь скомпонованный Сильвестром «летописец» назовут «Повестью временных лет» и припишут Нестору!
Мы же, чтобы восстановить историческую справедливость и не путаться в терминах, будем в дальнейшем называть «Повестью Нестора» только то, что, по ранее высказанному предположению, написал сам Нестор, то есть самое начало традиционной «Повести», ее мифологическую часть, а предположительный свод летописей Сильвестра будем именовать «Летописцем Сильвестра». Тогда «Повесть Нестора», дополненная более поздними вставками, заканчивается где-то в начале XI века с началом настоящего летописания, и соответственно примерно с этого же времени начинается «Летописец Сильвестра», чье окончание определяется более точно – 1116 год.
Дальнейшая судьба сильвестрова «Летописца», традиционно именуемого «второй редакцией» «Повести», не отличается ясностью и прозрачностью. Время появления и авторство «третьей редакции» «Повести» остаются предметом спора. Однако, ясно одно: где бы и когда бы ни появилась «третья редакция», «Повесть Нестора» была объединена с собственно летописью, «Летописцем Сильвестра», до того. Можно, что и делает А. Никитин, оспаривать действительно не очевидное утверждение М. Алешковского об авторстве «третьей редакции» некого новгородского попа Василия, но нельзя игнорировать целый комплекс весьма убедительных аргументов Алешковского в пользу времени и места появления «третьей редакции», ее новгородского источника, а также содержания внесенных в нее изменений и добавлений. Для нас важно, что эти изменения и добавления коснулись как «Повести Нестора», так и «Летописца Сильвестра». Именно это заставляет предполагать объединение обоих компонентов еще во «второй редакции» и считать наиболее вероятным объединителем игумена Сильвестра.
В отличие от авторов двух первых редакций традиция не узаконила личность автора третьей, а предположения М. Алешковского действительно слишком спорны, чтобы их безоговорочно принять. Поэтому в дальнейшем мы будем условно называть неизвестного автора «третьей редакции» неким гипотетическим Автором-3, в общем не исключая, что им мог быть поп Василий Алешковского, но и не настаивая на этом. Зато уже с куда меньшей долей условности мы примем трудно опровергаемые выводы Алешковского, что Автор-3 принадлежал к окружению новгородского князя Мстислава, сына Мономаха, и что эта редакция появилась в киевском Андреевском монастыре в 1118 или 1119 году, то есть после того как Мстислав перебрался в Киев. [135]
Итак, мы исходим из того, что Автор-3 существенно переработал не только «Летописец Сильвестра», но и «Повесть Нестора». «Летописец» пополнился новыми сведениями, главным образом новгородскими, и историей ослепления Василька Теребовльского; некоторые его статьи были сокращены, другие дополнены; ряд материалов подвергся тасовке. Но еще бóльшим оказался вклад Автора-3 в несторову «Повесть», едва ли не бóльшим, чем вклад самогó Нестора. После переработки Автором-3 мифологическая часть «Повести» по объему выросла в несколько раз, причем переработка «Повести Нестора» шла сразу по нескольким направлениям.
Во-первых, Автор-3, располагая более полным текстом «Хроники Амартола», существенно пополнил географию Нестора, расширив краткие цитаты из «Хронографа». Его географические экскурсы затронули как дальние страны, так и «ближнее зарубежье». В частности заметно расширился перечень славянских племен: в нем появились отсутствовавшие у Нестора дулебы, уличи, тиверцы, радимичи и вятичи. Но не только «Амартол» послужил Автору-3 источником географической информации. От участников походов 1116 года на Дунай киевлянам стало известно о существовании тезки их города, дунайского Киевца, и перевозчик или охотник Нестора превратился в «князя» Кия, сходившего «к царю» и оставившего после себя городок на Дунае. Царь, то есть византийский император, в данном случае остался безымянным, так как «Амартол» не удостоил вниманием «похождения Кия» вследствие мифичности «князя». Но для Автора-3 это не стало препятствием, поскольку смелостью фантазии он ничуть не уступал предшественнику, а размахом даже превосходил его настолько же, насколько цитируемая им «Хроника Амартола» была полнее единственно доступного Нестору «Хронографа». Кроме того, в отличие от затворника Нестора Автор-3 возможно сам немало попутешествовал. Ареал путешествий, гипотетически приписываемых ему М. Алешковским, весьма широк: в него помимо Новгорода и Киева вошли Ладога, Галиция с Волынью и даже Польша.
Во-вторых, Автор-3 ввел в «Повесть» договоры Олега и Игоря с греками. Откуда он их взял и что это были за договоры, – это отдельный серьезный вопрос, далеко выходящий за рамки настоящей компиляции, хотя вернуться к нему у нас еще будет повод. Но благодаря этим договорам [136]произошло то, чего не могли предусмотреть ни Нестор, ни Сильвестр: мифическая часть «Повести», которую никто до Автора-3 и не пытался выдавать за летопись ввиду ее очевидной сказочности, вдруг обрела летописные черты на якобы документальной основе (как же, вот они, настоящие юридические документы!). С этого момента благодаря Автору-3 русская историческая мифология начала превращаться в русскую мифическую историю.
В-третьих, работая в Андреевском монастыре, само сооружение которого отразило пришедшую в начале XII века из Византии на Русь моду на ап. Андрея, Автор-3 ввел в «Повесть» путешествие по Руси «своего» святого, Андрея Первозванного, направив его в Рим через Киев и Новгород, то есть, пользуясь современной поговоркой, «в Малаховку через Владивосток». Соответственно, он же, вероятный выходец из Новгорода, отодвинул в далекое прошлое реалию своего времени – «путь из варяг в греки», чтобы по нему прогнать апостола через родные новгородские края. А потом с легкой руки Автора-3 по этому пути, да и всей «Повести», начали гулять варяги. Заметим, что у Автора-3 варяги – не обязательно скандинавы, а в более широком плане западноевропейцы или даже скорее христиане-католики, и отношение к ним Автора-3 гораздо более лояльное, чем у Нестора [137]. Соответственно смещаются акценты «Повести». Теперь свет истинной веры восточным славянам несет не ап. Павел, косвенно через их западных собратьев Норика и Иллирии, а лично ап. Андрей и непосредственно на Киевщине да Новгордчине, причем Андрей Первозванный – брат основателя римской церкви ап. Петра – свой окольный путь держит все-таки в Рим, благо туда, как известно, ведут все дороги. Вследствие варяжско-римской ориентации Автора-3 первая мифическая «соборная» церковь св. Ильи из «списка с договора Игоря с греками» появляется на Руси как церковь варяжская, «так как много было христиан-варягов». Первыми страдальцами за христианскую веру на киевской земле задолго до первых русских святых Бориса и Глеба также оказываются два варяга, отец и сын, замученные местными язычниками. Наконец, даже первый русский инок, впоследствии св. Антоний, как бы перенимает духовную эстафету не только от греческого Афона (Святой Горы), где он принимает постриг, но одновременно и от варягов через приобщение к вырытой теми «малой пещерке» в Берестове. [138]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: